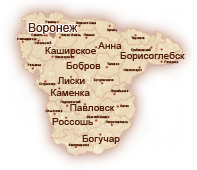Исаев Егор Александрович «День Пушкина»
(Исаев Е. А. День Пушкина // Избранное в трёх томах. Т. 3. Эссе, статьи, размышления / Е. А. Исаев. – Воронеж, 2011. – С. 28–38).
Признаюсь, одно время я сильно колебался во мнении: надо или не надо каждый год проводить Пушкинский праздник в Михайловском? Больше даже склонялся к тому, что не надо. Считал, что туда – в Михайловское, туда – в Тригорское и Петровское, туда – в Святогорский монастырь надо приезжать в одиночестве. То есть, думал я тогда, быть под небом Пушкина, ходить по земле, что помнит его лёгкий, порывистый шаг, можно только в исключительно спокойном, укромном уединении. Только такое, глубоко личное, неспешное восприятие всего того, что при жизни окружало поэта, поможет, как мне казалось, преодолеть ту преграду, отделяющую нас на два столетия от нашего живого Пушкина.
Вот почему я считал и продолжаю считать, что в природный мавзолей Пушкина, под его небо, в залы его лесов и полей надо входить как можно тише, приподнявшись душой, дабы ненароком не задеть, не потревожить неспешный ход его высоких дум. Только так, а не иначе, казалось мне, надо встречаться с Пушкиным в его родительских местах.
Но, побывав однажды в Пушкиногорье на Всесоюзном поэтическом празднике, я, к радости своей, в равной мере утвердился и в том и в другом. Там я особенно отчётливо осознал то, что Пушкин нужен не только каждому из нас в отдельности – ему, тебе, мне, – но и всем нам вместе, нужен всему народу в целом. И не только повседневно, в будничное время, но и в праздничное, в исключительно редком ряду особо избранных дней.
Как известно, у каждого имени есть свои праздники, мы их называем именинами. А почему бы, спрашивается, параллельно с религиозным календарём такого рода или даже вопреки ему не ввести в обиход и нам свой календарь памяти?
Ведь праздник пушкинской музы – это, я уверен, праздник сердца каждого из нас и всех нас вместе. Так я это теперь понимаю. А праздник – это тоже работа, работа души в радости общения, работа по поддержанию огня памяти на миру, форма открытой благодарности друг другу. Взаимная отзывчивость в заздравном слове, в застольной песне, в кругу пляски. Не о такой ли отзывчивости в минуты грусти мечтал и сам Пушкин? Помните его «Эхо»? Он сам ждал отзыва. И хотя не всегда верил, что дождётся, отзыв всё-таки был. Был при жизни поэта и после его смерти. Был и в девятнадцатом, и двадцатом веке. Особенно в двадцатом, после революции. И какой отзыв! Тут я с полным основанием могу сказать, что в этом смысле равных Пушкину в мире нет. Отзывчивость на всё, что написал Пушкин, у нас воистину всенародная. На всю грамоту, можно сказать, отзывчивость – от букваря до энциклопедии, от первоклассника до академика... Отзывчивость на всех языках Союза. А такое насильственно пробудить нельзя, как нельзя, скажем, заставить любить. Этому чувству даже в университетах научить невозможно. Любовь сама волю любит.
Мы любим Пушкина и повсеместно празднуем его. Особенно в его Болдине, особенно в его Михайловском, празднуем там, где он родился, в Москве, там, где покоится его прах. Празднуем не просто в день его рождения, а в день его бессмертия, празднуем не только на 37 физически прожитых им лет, а на всю даль веков, которая есть и которая ещё грядёт.
В этом смысле у Пушкина дня смерти нет. Есть только день рождения – 6 июня. Скажу больше: этот день, день 6 июня, по праву можно считать и днём вступления во все свои жанровые и видовые владения в литературе нашего живого разговорного русского языка – первотворца и первохудожника нашего. И ещё: именно с этого дня – ни с какого другого – начинается, я считаю, мировое летоисчисление нашей большой литературы. Скажут: а «Слово о полку Игореве»? А другие наши литературные памятники? Наши, конечно, и всё-таки их надо переводить на живой наш язык.
Приближались к живому языку и Ломоносов, и Державин, и Жуковский, и Батюшков... Но в том-то всё и дело, что приближались. Державин, так же как и Ломоносов, был слишком торжественно высок в стиле и слоге, Жуковский – слишком сладкозвучен, тонок слишком.
Один только Пушкин сделал резкий шаг вперёд – навстречу разговорному русскому языку-океану, навстречу его великому, повседневному волнению. И, войдя в этот океан, он тем самым дал возможность и ему, языку-океану, беспредельно войти в себя, в своё творчество, в нерв своего слога и слова. Войти и старокнижно – всей рукописной и печатной культурой тех времён, и изустно – сказкой, былиной, притчей, пословицей и поговоркой, войти и дать новую жизнь новому литературному языку, новой литературе, новой книге. И это отнюдь никакое не преувеличение с моей стороны.
Доказательство? Пожалуйста. Пушкин, на мой взгляд, единственный в мире великий поэт, в начале творчества которого лежит сказка. «Руслан и Людмила» разве не свидетельствует прямо об этом? В письме к брату Пушкин писал: «...вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!». И это, заметьте, пишет один из самых образованных людей России, ещё в детстве прозванный своими друзьями-лицеистами «французом» за великолепное знание французского языка и литературы. Каждая сказка есть поэма! Пушкин этим самым как бы устанавливает равноправие жанров – сказки и поэмы. И не только устанавливает, но и считает возможным переток между ними. Сказки – в поэму, поэмы – в сказку. Церковнославянизмы отходят в сторону – в музеи, в архив. Таким образом, Пушкин, можно сказать, впервые возвёл в законное право соавторства в литературе наш великий разговорный русский язык.
Остаётся неясным, за что Пушкин корит своё воспитание. Причём не плохое просто, а «проклятое». Смысловое ударение падает именно на это слово, ни на какое другое. В чём тут дело? А дело тут, как мне кажется, в том, что Пушкину всегда претило то высокомерно-чванливое отношение к народу, которое всячески насаждалось среди детей дворян. Вот почему, думаю, Пушкин и назвал это воспитание проклятым. Ген простонародия, смею утверждать, в Пушкине был куда выше и сильнее унаследованного им знака дворянина. Отсюда и его гениальность. Он гениален прежде всего народом, чувством его истории, культуры и языка. Слово Пушкина, будучи великим, никогда специально не демонстрировало своё превосходство над словом народа.
Даже когда «народ безмолвствует», по Пушкину, – это уже больше, чем говорит. Народ в «Борисе Годунове» предстаёт в двух возможных величинах: либо это Бог, либо это бунт. Так беспрекословно высок для Пушкина авторитет народа. Чернь - это не народ, это примерно то же самое, что теперь обыватель. Чернь, по Пушкину, – это, скорее, титулованное невежество, чванство в роскоши и безделии, светское ряженство на балах, нежели просто неграмотность. Уверен, что неграмотная Арина Родионовна была для него куда более образованным человеком, чем, скажем, тот же самодур Троекуров из повести «Дубровский». Образованность идёт от слова «образ». Образ мысли, образ поведения, образ лица, жеста, слова и, наконец, сам образ жизни – вот что больше всего интересовало в людях Пушкина. Кто сейчас, не задумываясь, с ходу назовёт нам всех лицейских учителей Пушкина? Да никто. А вот Арину Родионовну назовёт почти каждый, кого ни спроси. Она учила его больше, чем грамоте, – она учила его народу, его живому языку. И Пушкин как нельзя лучше усвоил этот урок. Народ для него – это носитель всего нравственного в извилистых берегах истории и по её стрежню.
Отсюда и «Пророк» у Пушкина. Нельзя стать пророком, любуясь только собой и возносясь над народом. Только вхождение в жизнь, только хождение по жизни – по горним и дольним её сферам, – только встречное вхождение жизни в разъятое сердце поэта дают ему относительное право в какой-то мере считать себя пророком. Не вознесение в слове, а осмысленное, как долг, служение, страдание словом – вот что составляет цель и смысл истинного дарования. Не блистательный эпитет, признак предмета, не имя его, не даже суть имени этого предмета, а сам глагол, сама энергия мысли, жгущая и врачующая одновременно, – вот что такое работа талантом. Пророчество, по Пушкину, повторяю, отнюдь не самовознесение в дежурной позе мудреца, а каждодневное служение добру, истине.
Скажут: а тогда как понимать «Памятник»? Разве там не идёт речь о самовознесении? Да и сам факт написания такого рода стихотворения разве не говорит о том же самом? Говорит, но совсем в других целях и тонах. Во-первых, это дань традиции, идущей ещё из глубин античной поэзии. А во-вторых, слово в таких монументальных стихах обычно подражало мрамору и бронзе, подчёркивая тем самым особую торжественность, незыблемость сказанного.
Так было у греков и римлян.
Так было и у нашего Державина.
Совсем другое у Пушкина. Он воспользовался традицией, скорее, в границах формы, нежели смысла. Да и «строительный материал» у него несколько иной, чем у его давних и недавних предшественников. Слово его подражает не столько мрамору и бронзе, сколько живому дереву, духу человеческому.
Вот почему я считал и продолжаю считать, что в природный мавзолей Пушкина, под его небо, в залы его лесов и полей надо входить как можно тише, приподнявшись душой, дабы ненароком не задеть, не потревожить неспешный ход его высоких дум. Только так, а не иначе, казалось мне, надо встречаться с Пушкиным в его родительских местах.
Но, побывав однажды в Пушкиногорье на Всесоюзном поэтическом празднике, я, к радости своей, в равной мере утвердился и в том и в другом. Там я особенно отчётливо осознал то, что Пушкин нужен не только каждому из нас в отдельности – ему, тебе, мне, – но и всем нам вместе, нужен всему народу в целом. И не только повседневно, в будничное время, но и в праздничное, в исключительно редком ряду особо избранных дней.
Как известно, у каждого имени есть свои праздники, мы их называем именинами. А почему бы, спрашивается, параллельно с религиозным календарём такого рода или даже вопреки ему не ввести в обиход и нам свой календарь памяти?
Ведь праздник пушкинской музы – это, я уверен, праздник сердца каждого из нас и всех нас вместе. Так я это теперь понимаю. А праздник – это тоже работа, работа души в радости общения, работа по поддержанию огня памяти на миру, форма открытой благодарности друг другу. Взаимная отзывчивость в заздравном слове, в застольной песне, в кругу пляски. Не о такой ли отзывчивости в минуты грусти мечтал и сам Пушкин? Помните его «Эхо»? Он сам ждал отзыва. И хотя не всегда верил, что дождётся, отзыв всё-таки был. Был при жизни поэта и после его смерти. Был и в девятнадцатом, и двадцатом веке. Особенно в двадцатом, после революции. И какой отзыв! Тут я с полным основанием могу сказать, что в этом смысле равных Пушкину в мире нет. Отзывчивость на всё, что написал Пушкин, у нас воистину всенародная. На всю грамоту, можно сказать, отзывчивость – от букваря до энциклопедии, от первоклассника до академика... Отзывчивость на всех языках Союза. А такое насильственно пробудить нельзя, как нельзя, скажем, заставить любить. Этому чувству даже в университетах научить невозможно. Любовь сама волю любит.
Мы любим Пушкина и повсеместно празднуем его. Особенно в его Болдине, особенно в его Михайловском, празднуем там, где он родился, в Москве, там, где покоится его прах. Празднуем не просто в день его рождения, а в день его бессмертия, празднуем не только на 37 физически прожитых им лет, а на всю даль веков, которая есть и которая ещё грядёт.
В этом смысле у Пушкина дня смерти нет. Есть только день рождения – 6 июня. Скажу больше: этот день, день 6 июня, по праву можно считать и днём вступления во все свои жанровые и видовые владения в литературе нашего живого разговорного русского языка – первотворца и первохудожника нашего. И ещё: именно с этого дня – ни с какого другого – начинается, я считаю, мировое летоисчисление нашей большой литературы. Скажут: а «Слово о полку Игореве»? А другие наши литературные памятники? Наши, конечно, и всё-таки их надо переводить на живой наш язык.
Приближались к живому языку и Ломоносов, и Державин, и Жуковский, и Батюшков... Но в том-то всё и дело, что приближались. Державин, так же как и Ломоносов, был слишком торжественно высок в стиле и слоге, Жуковский – слишком сладкозвучен, тонок слишком.
Один только Пушкин сделал резкий шаг вперёд – навстречу разговорному русскому языку-океану, навстречу его великому, повседневному волнению. И, войдя в этот океан, он тем самым дал возможность и ему, языку-океану, беспредельно войти в себя, в своё творчество, в нерв своего слога и слова. Войти и старокнижно – всей рукописной и печатной культурой тех времён, и изустно – сказкой, былиной, притчей, пословицей и поговоркой, войти и дать новую жизнь новому литературному языку, новой литературе, новой книге. И это отнюдь никакое не преувеличение с моей стороны.
Доказательство? Пожалуйста. Пушкин, на мой взгляд, единственный в мире великий поэт, в начале творчества которого лежит сказка. «Руслан и Людмила» разве не свидетельствует прямо об этом? В письме к брату Пушкин писал: «...вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!». И это, заметьте, пишет один из самых образованных людей России, ещё в детстве прозванный своими друзьями-лицеистами «французом» за великолепное знание французского языка и литературы. Каждая сказка есть поэма! Пушкин этим самым как бы устанавливает равноправие жанров – сказки и поэмы. И не только устанавливает, но и считает возможным переток между ними. Сказки – в поэму, поэмы – в сказку. Церковнославянизмы отходят в сторону – в музеи, в архив. Таким образом, Пушкин, можно сказать, впервые возвёл в законное право соавторства в литературе наш великий разговорный русский язык.
Остаётся неясным, за что Пушкин корит своё воспитание. Причём не плохое просто, а «проклятое». Смысловое ударение падает именно на это слово, ни на какое другое. В чём тут дело? А дело тут, как мне кажется, в том, что Пушкину всегда претило то высокомерно-чванливое отношение к народу, которое всячески насаждалось среди детей дворян. Вот почему, думаю, Пушкин и назвал это воспитание проклятым. Ген простонародия, смею утверждать, в Пушкине был куда выше и сильнее унаследованного им знака дворянина. Отсюда и его гениальность. Он гениален прежде всего народом, чувством его истории, культуры и языка. Слово Пушкина, будучи великим, никогда специально не демонстрировало своё превосходство над словом народа.
Даже когда «народ безмолвствует», по Пушкину, – это уже больше, чем говорит. Народ в «Борисе Годунове» предстаёт в двух возможных величинах: либо это Бог, либо это бунт. Так беспрекословно высок для Пушкина авторитет народа. Чернь - это не народ, это примерно то же самое, что теперь обыватель. Чернь, по Пушкину, – это, скорее, титулованное невежество, чванство в роскоши и безделии, светское ряженство на балах, нежели просто неграмотность. Уверен, что неграмотная Арина Родионовна была для него куда более образованным человеком, чем, скажем, тот же самодур Троекуров из повести «Дубровский». Образованность идёт от слова «образ». Образ мысли, образ поведения, образ лица, жеста, слова и, наконец, сам образ жизни – вот что больше всего интересовало в людях Пушкина. Кто сейчас, не задумываясь, с ходу назовёт нам всех лицейских учителей Пушкина? Да никто. А вот Арину Родионовну назовёт почти каждый, кого ни спроси. Она учила его больше, чем грамоте, – она учила его народу, его живому языку. И Пушкин как нельзя лучше усвоил этот урок. Народ для него – это носитель всего нравственного в извилистых берегах истории и по её стрежню.
Отсюда и «Пророк» у Пушкина. Нельзя стать пророком, любуясь только собой и возносясь над народом. Только вхождение в жизнь, только хождение по жизни – по горним и дольним её сферам, – только встречное вхождение жизни в разъятое сердце поэта дают ему относительное право в какой-то мере считать себя пророком. Не вознесение в слове, а осмысленное, как долг, служение, страдание словом – вот что составляет цель и смысл истинного дарования. Не блистательный эпитет, признак предмета, не имя его, не даже суть имени этого предмета, а сам глагол, сама энергия мысли, жгущая и врачующая одновременно, – вот что такое работа талантом. Пророчество, по Пушкину, повторяю, отнюдь не самовознесение в дежурной позе мудреца, а каждодневное служение добру, истине.
Скажут: а тогда как понимать «Памятник»? Разве там не идёт речь о самовознесении? Да и сам факт написания такого рода стихотворения разве не говорит о том же самом? Говорит, но совсем в других целях и тонах. Во-первых, это дань традиции, идущей ещё из глубин античной поэзии. А во-вторых, слово в таких монументальных стихах обычно подражало мрамору и бронзе, подчёркивая тем самым особую торжественность, незыблемость сказанного.
Так было у греков и римлян.
Так было и у нашего Державина.
Совсем другое у Пушкина. Он воспользовался традицией, скорее, в границах формы, нежели смысла. Да и «строительный материал» у него несколько иной, чем у его давних и недавних предшественников. Слово его подражает не столько мрамору и бронзе, сколько живому дереву, духу человеческому.
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И назовёт меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
Обратите внимание: пройдёт не слава в торжественном шествии, а всего лишь слух. Слава – она выше и быстрее слуха. Но зато слух – глубже, основательнее, под стать той поговорке: «слухом земля полнится». Слух – это теплее... И не воздаст, как следовало бы ожидать, не объявит громогласно, а всего лишь «назовёт» в тихой беседе всех сущих языков, как бы дружески собравшихся однажды у ночного костра. Это памятник – до памятника ещё. Сначала в душе, а уж потом в камне и металле. Сначала в народе, от народа, а уж затем – перед народом.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Видите, всего лишь «любезен», а не безоговорочно «любим». Всего лишь «пробуждал», а не будил, допустим, как набат. Все смягчено, даже, если хотите, благодарно снижено к великим стопам великого, нескончаемого в веках народа, чья тропа к подножию памятника поэта – заметьте, тропа, а не дорога – никогда не зарастёт травой забвения. Высоко возносится лишь одно слово – «восславил», причём рядом со словом «свобода» и причём так же гордо возносится, как и непокорная глава самого поэта над Александрийским столпом самодержавия. А смотрите, какой смысловой и эмоциональный каскад в трёх чередующихся фразах: «чувства добрые», «жестокий век» и «милость к падшим». Такое доступно только гению.
Но Пушкин слишком хорошо знал, что он прежде всего человек, потому, собственно, и не любил ложно-значительных масок – ни маски поэта просто, ни тем более маски гения. Он был более чем кто-либо другой раним в душе и отзывчив, равно как и мудр. Будь он другим, он бы не пошёл так решительно на Чёрную речку и не пожертвовал бы так искренне собой на той так подло подстроенной дуэли. Нет, он слишком знал, что он – человек. И не отказывал себе в удовольствии быть таковым. Истинный гений – он всегда гораздо человечнее своей гениальности. Игра в гения лишь выдаёт отсутствие такового. И такая игра вредна не только для самих играющих.
Пушкин – абсолютная противоположность такой позёрствующей гениальности. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» – вот как он однажды в шутку отвеличал самого себя, довольный тем, что наконец-то завершил работу над «Борисом Годуновым». Вот уже два века прошло с той поры, а искорка озорства в этой фразе по сей день не гаснет. Так мог сказать о себе только тот, кто под стать народному присловью горазд и себя на миру показать, и других посмотреть, – это в народном характере, в правилах бесхитростного общения между людьми. Самоирония здесь была бы слишком тонка, а вот шутка – в самый раз.
И вообще Пушкину больше свойственна шутка, нежели ирония. В иронии всё-таки есть определённая доля высокомерия, а иногда даже и цинизма. Шутка лишена всего этого, она простодушней, добрей. Этой стороной она ближе всего к своим старшим сестрам – сказке и басне.
Но ирония – ладно. Больше всего Пушкин сторонился перехмура в стихах. На что уж «Евгений Онегин» – великий роман, а как он легко, как бы шутя, открывается! Более того, если судить по предпосланному роману дружескому обращению Пушкина к Плетнёву, можно даже ненароком подумать, что в дальнейшем речь вообще может пойти лишь о каком-то частном послании в стихах. Не более.
Но Пушкин слишком хорошо знал, что он прежде всего человек, потому, собственно, и не любил ложно-значительных масок – ни маски поэта просто, ни тем более маски гения. Он был более чем кто-либо другой раним в душе и отзывчив, равно как и мудр. Будь он другим, он бы не пошёл так решительно на Чёрную речку и не пожертвовал бы так искренне собой на той так подло подстроенной дуэли. Нет, он слишком знал, что он – человек. И не отказывал себе в удовольствии быть таковым. Истинный гений – он всегда гораздо человечнее своей гениальности. Игра в гения лишь выдаёт отсутствие такового. И такая игра вредна не только для самих играющих.
Пушкин – абсолютная противоположность такой позёрствующей гениальности. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» – вот как он однажды в шутку отвеличал самого себя, довольный тем, что наконец-то завершил работу над «Борисом Годуновым». Вот уже два века прошло с той поры, а искорка озорства в этой фразе по сей день не гаснет. Так мог сказать о себе только тот, кто под стать народному присловью горазд и себя на миру показать, и других посмотреть, – это в народном характере, в правилах бесхитростного общения между людьми. Самоирония здесь была бы слишком тонка, а вот шутка – в самый раз.
И вообще Пушкину больше свойственна шутка, нежели ирония. В иронии всё-таки есть определённая доля высокомерия, а иногда даже и цинизма. Шутка лишена всего этого, она простодушней, добрей. Этой стороной она ближе всего к своим старшим сестрам – сказке и басне.
Но ирония – ладно. Больше всего Пушкин сторонился перехмура в стихах. На что уж «Евгений Онегин» – великий роман, а как он легко, как бы шутя, открывается! Более того, если судить по предпосланному роману дружескому обращению Пушкина к Плетнёву, можно даже ненароком подумать, что в дальнейшем речь вообще может пойти лишь о каком-то частном послании в стихах. Не более.
Но так и быть – рукой пристрастной
Прими собранье пёстрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, лёгких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Прими собранье пёстрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, лёгких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Во всём здесь – движение света и тени, как в летний полдень у большой реки, во всём – жар и прохлада высокого дня... И шутка и серьёз – всё вместе. Но – вот чудо! – ничто здесь специально не выделено, не подчёркнуто особо, разве что несколько тревожней и тяжелей даны, может быть, две последние строки. Они более эпичны, как из-под пера самого Пимена, и потому более холодны и вместе с тем интимно пронзительны, особенно в слове «горестных»... Но с какой, повторяю, кажущейся легкостью они подготовлены и даны на листе. Так подготовлен и дан весь роман, который назовут потом «энциклопедией русской жизни».
И главное тут опять же не столько в пророческом, сколько в человеческом.
«Медный всадник» – это не только памятник Петру, но и, осмелюсь предположить, Евгению тоже. Да, да, именно так. Ведь кто возьмёт на себя смелость с определённостью сказать, чью предпочтительно сторону берёт здесь Пушкин – сторону Петра-самодержца или же его подданного, рядового чиновника Евгения? Лично я склонен считать: ни ту, ни другую. Скорее всего, третью – жизнь во всех её природных и исторических проявлениях.
Да, мы вместе с Пушкиным искренне восторгаемся красотой великого града на Неве и могуществом его основателя – Петра. Но в то же время мы, так же как и Пушкин, с той же силой искренности сочувствуем и сострадаем Евгению. И не только сострадаем и сочувствуем, но и, согласитесь, втайне радуемся его решимости постоять за себя. Он ведь тоже, если вдуматься, по-своему велик, этот маленький по своему социальному положению человек, – велик своей любовью к Параше, велик своей верностью этой любви. Он ведь тоже – сила, Евгений, а не одна только покорность. И что поразительно – это понимает сам Пётр. Медный уже давно, а понимает. Иначе зачем же ему тогда, великому самодержцу, императору всея Руси, так не по-императорски чувствительно реагировать на угрозу какого-то маленького, несчастного Евгения – срываться с постамента и по всему городу гоняться за ним? Несолидно как-то получается. Это всё равно, что из пушки по воробьям палить. А если это не так, то тогда мы должны будем признать, что короткая фраза угрозы «ужо тебе» нисколько не слабее «тяжело-звонкого скаканья по потрясённой мостовой».
Момент безумия? Да. Но тогда зачем гению только ради этого браться за такую грандиозную по мысли короткую повесть-поэму? Думаю, что тут дело не только в безумии. Скорее, даже вопреки ему. Помните «Горе от ума»? Дело тут, как мне кажется, в другом – в правомочности противоборствуюших начал: величия державной власти и величия любви. Велик самодержец, но и человек просто – по-своему велик. Так я понимаю Пушкина.
Пушкин! Без него она просто непредставима, наша большая литература. Непредставима ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Без любви к Пушкину даже само чувство любви кажется мне недостаточно полным. Я не знаю более живого человека в народе, чем Пушкин. «Наш Пушкин» – говорят пушкиногорцы. И он действительно их. Он живёт среди них, ходит по этим тропинкам, аукается в лесах... И это не мистика какая-то. Это правда. Вот его дом, вот его стол, вещи его. Такое впечатление: минуты не прошло, как он вышел из дому, и с минуты на минуту вернётся. А может, он гостит у своих друзей в Тригорском? А может, объезжает на коне свои великие владенья – владенья мысли и души? Скорее всего, так оно и есть. Здесь особая созвучность во времени. Здесь век и минута, как дед с внучкой: летописно и целомудренно тут. И уютно! Совсем почти по-домашнему, в чём-то родственно даже. Не это ли чувство есть чувство исторического родства? Тут даже воздух, и тот какой-то по-особенному свой – не музейный, нет, а живой, как ветер за окном, за лесом, за рекой... А там, по ту сторону ветра, как по ту сторону века, – живое лицо Пушкина, а по эту – наши лица, благодарно обращённые к нему отсюда, из наших дней. По календарю это очень далеко, а по чувству близко.
Вот поляна Пушкина. Называется она Большой поляной. Но, мне кажется, ей подойдёт больше «поле», а не поляна. Причём не просто большое поле, а великое, напрямую родственное нашим ратным полям – Ледово-Чудскому, Куликову, Бородинскому, Прохоровскому... Поле Пушкина – это поле наших великих глаголов. И как вольно здесь – особенно в поэтические праздники – бессмертным словам:
И главное тут опять же не столько в пророческом, сколько в человеческом.
«Медный всадник» – это не только памятник Петру, но и, осмелюсь предположить, Евгению тоже. Да, да, именно так. Ведь кто возьмёт на себя смелость с определённостью сказать, чью предпочтительно сторону берёт здесь Пушкин – сторону Петра-самодержца или же его подданного, рядового чиновника Евгения? Лично я склонен считать: ни ту, ни другую. Скорее всего, третью – жизнь во всех её природных и исторических проявлениях.
Да, мы вместе с Пушкиным искренне восторгаемся красотой великого града на Неве и могуществом его основателя – Петра. Но в то же время мы, так же как и Пушкин, с той же силой искренности сочувствуем и сострадаем Евгению. И не только сострадаем и сочувствуем, но и, согласитесь, втайне радуемся его решимости постоять за себя. Он ведь тоже, если вдуматься, по-своему велик, этот маленький по своему социальному положению человек, – велик своей любовью к Параше, велик своей верностью этой любви. Он ведь тоже – сила, Евгений, а не одна только покорность. И что поразительно – это понимает сам Пётр. Медный уже давно, а понимает. Иначе зачем же ему тогда, великому самодержцу, императору всея Руси, так не по-императорски чувствительно реагировать на угрозу какого-то маленького, несчастного Евгения – срываться с постамента и по всему городу гоняться за ним? Несолидно как-то получается. Это всё равно, что из пушки по воробьям палить. А если это не так, то тогда мы должны будем признать, что короткая фраза угрозы «ужо тебе» нисколько не слабее «тяжело-звонкого скаканья по потрясённой мостовой».
Момент безумия? Да. Но тогда зачем гению только ради этого браться за такую грандиозную по мысли короткую повесть-поэму? Думаю, что тут дело не только в безумии. Скорее, даже вопреки ему. Помните «Горе от ума»? Дело тут, как мне кажется, в другом – в правомочности противоборствуюших начал: величия державной власти и величия любви. Велик самодержец, но и человек просто – по-своему велик. Так я понимаю Пушкина.
Пушкин! Без него она просто непредставима, наша большая литература. Непредставима ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Без любви к Пушкину даже само чувство любви кажется мне недостаточно полным. Я не знаю более живого человека в народе, чем Пушкин. «Наш Пушкин» – говорят пушкиногорцы. И он действительно их. Он живёт среди них, ходит по этим тропинкам, аукается в лесах... И это не мистика какая-то. Это правда. Вот его дом, вот его стол, вещи его. Такое впечатление: минуты не прошло, как он вышел из дому, и с минуты на минуту вернётся. А может, он гостит у своих друзей в Тригорском? А может, объезжает на коне свои великие владенья – владенья мысли и души? Скорее всего, так оно и есть. Здесь особая созвучность во времени. Здесь век и минута, как дед с внучкой: летописно и целомудренно тут. И уютно! Совсем почти по-домашнему, в чём-то родственно даже. Не это ли чувство есть чувство исторического родства? Тут даже воздух, и тот какой-то по-особенному свой – не музейный, нет, а живой, как ветер за окном, за лесом, за рекой... А там, по ту сторону ветра, как по ту сторону века, – живое лицо Пушкина, а по эту – наши лица, благодарно обращённые к нему отсюда, из наших дней. По календарю это очень далеко, а по чувству близко.
Вот поляна Пушкина. Называется она Большой поляной. Но, мне кажется, ей подойдёт больше «поле», а не поляна. Причём не просто большое поле, а великое, напрямую родственное нашим ратным полям – Ледово-Чудскому, Куликову, Бородинскому, Прохоровскому... Поле Пушкина – это поле наших великих глаголов. И как вольно здесь – особенно в поэтические праздники – бессмертным словам:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен...
Он, как душа, неразделим и вечен...
Горы Пушкина... Поле Пушкина! Здесь даже и в непогоду солнечно и тепло. Тепло от самого Пушкина и от гостеприимства его земляков – псковичей и пушкиногорцев.
День Пушкина бесконечен в народе.
День Пушкина бесконечен в народе.