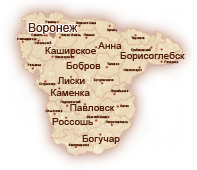Гончаров Ю. Д. «Неужели это Россия и есть?»
<…>
3.
<…> И вот – начало 70-х годов двадцатого века. Выстроен из железных конструкций и бетона цирк. На том самом месте, где на глубине трёх аршин лежали, а, может, ещё и сейчас лежат кости сотен воронежцев, среди которых немало таких, кто честью и правдой послужил своему городу, сделал для него немало хорошего, доброго; среди них есть и участники войны с Наполеоном, яростных битв с его армией, участники самого тяжкого, кровопролитнейшего сражения – Бородинского. Не один раз я сам лично держал в своих руках и читал в областном архиве родовые бумаги этих людей с упоминаниями об участии в сражении при Бородине. Чтить бы благоговейно подвиги этих героев, хранить бы нерушимо и бережно их покой. Но дикость и невежество не уважают прошедшего, – абсолютно верно, с болью в сердце сказал Пушкин. Теперь на костях достославных воронежцев будут кувыркаться размалеванные клоуны, орать истошными голосами, заливаться дурацким смехом. Спросить бы тех деятелей, что придумали ставить на кладбище цирк, на могилах своих же предков – что говорили им при этом их собственные души, внутренние чувства, моральные понятия – если, конечно, хоть что-то нравственное им полностью не чуждо? Да люди ли они вообще или не люди?
Но можно даже не спрашивать их об этом, ответ ясен и так. Решение о цирке, которое они дружно, согласно, без споров и колебаний приняли, подписали своими недрогнувшими руками, на вопрос: люди ли они или не люди, – отчётливо и однозначно само отвечает за них.
Время открытия цирка, запуска его в действие, обустройства прилегающей территории подходило всё ближе, а ясного, точного ответа – что же станется с прахом и памятниками на могилах двух великих народных русских поэтов, горсовет так и не давал.
В один из осенних дней глава воронежской писательской организации Евгений Дмитриевич Люфанов отправился к Поспееву выяснять эти волнующие многих воронежцев обстоятельства.
Нисколько не преувеличу, если скажу: это просто счастье, что тогда, в тот момент, воронежских писателей возглавлял Евгений Дмитриевич Люфанов. Я перебираю в мыслях всех других, кто в разные периоды, до Люфанова и после, стоял во главе писательской организации, и думаю: пошёл бы кто-нибудь из них вот так решительно в горсовет ругаться с Поспеевым, сказать ему в лицо и в адрес всего горсовета всё то, что они должны услышать, заслужили и своим цирком на могилах, и тем, что только собираются ещё совершить. Никто бы из других руководителей писательского союза в горсовет на бой с Поспеевым не пошёл бы, утверждаю это с полной уверенностью, зная прекрасно всех этих людей. Ни Костя Локотков, который за все 17 лет своего пребывания в должности председателя правления делал только лишь одно: получал положенную председателю зарплату. Ни Гордейчев, которого дважды снимали с председательского поста за нечистые проделки. Ни Виктор Михайлович Попов, который хотя и написал несколько прозаических книг, всё-таки настоящим писателем не был, так и остался на уровне журналиста ведомственной, железнодорожной газеты, из которой он пришёл в писательскую среду. Все из названных, как и другие, всегда стояли перед любым начальством навытяжку, ни единым словом, звуком даже, не прекословя, готовые тут же исполнить любые указания, любую волю вышестоящих лиц.
Люфанов же не боялся никого и ничего. Возраст его шагнул за отметку «70», в таком возрасте уже и сама смерть не страшна, каждый человек к ней готов и уже её ожидает. Люфанов не являлся членом партии, никогда в ней не состоял и не думал в неё вступать. Причина была одна: не хотел подчинять себя беспрекословной дисциплине. Свобода чувств, мыслей, свобода собственного внутреннего мира от всего, что укорачивает, обедняет личность, лишает её индивидуальности – была ему дороже, чем те чисто практические, меркантильные выгоды, которые получали люди, вступив в партию, обретя членский билет, который в расхожем бытовом языке, чуждом фальши, приукрашивания, откровенно обнажая суть, попросту назывался «хлебной карточкой». Люфанова нельзя было лишить собственной воли, отнять у него возможность действовать по велению своего сердца, совести, своих личных понятий, вызвав его в райком или в обком и, угрожая «мерами» поигрывая желваками, с силой нажать на него, как это проделывалось со многими из членов партии: или ты действуешь, говоришь на собрании, поднимаешь при голосовании свою руку вот так – ибо так положено в данном случае каждому коммунисту, потому что такова линия партии, указания ЦэКа, лично товарища Н. или товарища Н. Н., или выкладывай партийный билет на стол и на все четыре стороны к такой-то матери!..
Люфанов был ленинградец, пережил всю, с начала и до конца, ленинградскую блокаду. Состоял в ополчении из ленинградских рабочих и служащих, пока они ещё были в силах носить на себе винтовки. Голодал, мёрз, должен был умереть от истощения, но на чердаке Дома писателей нашли несколько забытых там когда-то бумажных мешков с плитками столярного клея. Из этих плиток в столовой Дома, где давно от голода передохли даже мыши, стали варить жиденький бульон, отпускать каждому писателю по кружке в день, и этих кружек хватило до той поры, когда под Невской Дубровкой, поднявшись в атаку в тысячный, наверное, раз, усталые, измотанные части Красной армии прорвали, наконец, блокадное кольцо и вошли в Ленинград, принеся с собой блокадникам освобождение, жизнь, уже забытый большинством хлеб и всякое другое продовольствие.
Происходил Люфанов из рабочей среды и в молодые годы сам был рабочим. И не на каких-то лёгких, пустяковых работах, а в одной из самых тяжких профессий – котельщиком. Упрямое, неподатливое железо, нагревы до тысячи градусов и выше, гром кувалд, от которого, как правило, люди, определившие себя в такие дела, через несколько лет полностью глохнут.
В писательстве Люфанов стоял крепко. Был серьёзно начитан, глубоко знал российскую историю всех времён. Переехав из Ленинграда в Воронеж по необходимости переменить климат, за двенадцать лет жизни на новом месте написал три больших романа о Ленине. Однажды, будучи в Москве, мы шли с ним по улице Горького мимо памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. Показывая на вздымающуюся за памятником громаду архивохранилища с документами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Люфанов мне сказал:
– Всё, что там находится, я, конечно, не прочитал и вряд ли прочитаю. Но половину – это точно.
В последний его юбилей к ленинградским медалям на его груди прибавился орден Трудового Красного знамени. С первым писателем России Михаилом Шолоховым у Люфанова большая дружба. Ездит к Шолохову в Вёшенскую, ловят вместе рыбу в Дону и на Хопре, пьют чаи из самовара на веранде, а, случается, и не только чай.
Чего такому человеку в ранге главы воронежской писательской организации, третьей по численности после Москвы и Ленинграда, робеть и трепетать, идя в горсовет к Поспееву, временной фигуре на своей должности. Трех романов о Ленине Поспеев не написал и не напишет, даже ни одной горсоветской бумажки не написал сам, это делают за него секретари и помощники, он только размашисто их подписывает. Орден Трудового Красного знамени на его груди не сверкает. Что касается Шолохова – то он даже имени Поспеева никогда не слыхал… Городской начальник? Пережитая блокада изменила в Люфанове все мерки, какие обычно прикладывают к людям, наглядно показала, за что на самом деле следует ценить и уважать людей, а вовсе не за то, кто какой начальник. Достоин уважения, например, тот, кто в часы обстрела города из дальнобойных германских орудий сходил по обледенелой улице к Неве, к проруби, и принёс бидон воды. Да не себе, а для соседа, который не может сам это сделать, слаб, истощён, не в силах даже самостоятельно сползти с кровати.
Вернулся Люфанов после разговора с Поспеевым расстроенный, мрачный, злой.
– Оказывается, там, в горсовете, под словом «благоустройство» понимали совсем другое: не то, что мы, которым они всё время это слово повторяли. Полное уничтожение могил! – вот что такое для них «благоустройство». А теперь заговорили в открытую, совсем другим, понятным языком: а куда их девать? Не перешагивать же через них цирковая публика будет? Поспеев на меня прямо обрушился: вы, то есть – я, всё твердите: прах, прах, великих поэтов прах. Да никакого праха там нет, я вам это как специалист говорю, я восемь кладбищ в Воронеже ликвидировал, знаю, что с прахом бывает и через сколько лет. Хотите, дам вам полукубовый экскаватор, копайте, убедитесь, что говорю правду. А тумбы – это он так памятники на могилах называет, – сказал Люфанов, – перенесём, куда укажете. Хотите, на двор Никитинского музея, места там достаточно. Хотите, к вам в Союз писателей, на третий этаж. Только больно уж тяжелы, боюсь, не выдержат перекрытия… Ну, это он для юмора, такой у Поспеева юмор… Он и пошутить, оказывается, не прочь.
– И что же теперь будет? – спросили Люфанова те, кто находился в помещении Союза и слышал его рассказ.
– Что… Пойду к Воротникову, буду говорить с ним. Он всё-таки человек с головой на плечах, должен понимать, что собирается сделать Поспеев. Как это аукнется по всей стране, в народе…
– Побывать у Воротникова, первого секретаря обкома, Люфанов не успел. На другой день в послеобеденное время в Союз писателей позвонила женщина, простая воронежская жительница, и взволнованно, сбивчиво, почти закричала в телефонную трубку:
– Что же вы сидите, писатели, ничего не предпринимаете, ведь памятники на могилах Кольцова и Никитина сносят! Возле них уже бульдозеры гудят, пыль столбом. Действуйте же! Да как же это можно, кто же это разрешил? С ума, что ли, спятили, соображения у наших начальников совсем, что ли, нет?!
Люфанов тут же набрал телефон приемной Воротникова. С Воротниковым его не соединили.
– Кто звонит, по какому поводу? Изложите суть дела.
Первой половины того, что произносил в трубку Люфанов, я не слышал, меня не было в это время в Союзе. Я только в него в это время шёл, поднимался по лестнице, брался за ручку входной двери и её открывал. А когда открыл – услышал во всю силу голоса крик Люфанова:
– …Я не прошу, так и скажите Виталию Ивановичу, не прошу, а требую, чтобы он явился на место преступления сам и лично присутствовал при уничтожении могил. Раз ему было доложено, он согласился с безумным распоряжением Поспеева, так пусть и вся полнота ответственности ложится на него. Пусть потом не виляет: да мне не так доложили, я не так говорил… А я сейчас же собираю у могил всех писателей, воронежских журналистов, учёных из университета – пусть будут свидетелями этого злодеяния, пусть оно произойдет у них на глазах. Пусть видят, каковы в Воронеже партийные и советские начальники, народные избранники, слуги народа, каких слов заслуживают они сами и их деяния. Виталий Иванович занят? Чем можно заниматься в такие минуты, когда творится такое? Что может быть важнее? Прервите! А я говорю – прервите!.. Иначе Виталий Иванович будет горько жалеть потом. А виновником окажетесь вы, личный помощник первого секретаря. Почему? Потому что не доложили, а надо немедленно доложить.
Таким, каким он был в эти минуты своего бешеного крика в телефонную трубку, я не видел Люфанова ещё никогда. Даже не предполагал, что он может таким быть: лицо тёмно-бурачного цвета от прилива крови, на губах пена, телефонная трубка прыгает возле его уха, левая рука сжата в кулак, подкрепляя слова, стучит по толстому стеклу, покрывающему председательский стол, того гляди его расколет.
– Мария Григорьевна, – бросив трубку, крикнул Люфанов в соседнюю комнату секретарше Союза, – звоните всем писателям, пусть срочно собираются у могил Кольцова и Никитина, на перекрестке Кирова и Кольцовской. Кто живёт далеко, кому долго добираться – пусть берут такси, оплатим после из средств Союза. Если кто из писателей появится здесь – пусть тоже срочно туда, к могилам. И я туда ухожу.
Мы пошли вместе. Шли быстро. Кровь продолжала оставаться в лице Люфанова. Он задыхался и всё же на ходу говорил:
– Если, не дай Бог, всё-таки произойдёт то, что задумал Поспеев, и Воротников, как Поспеев говорит, дал ему на это своё «добро», то Воротникову это так не сойдет, партийной карьере его конец. И кое-кто из его соратников, окружения и верховного начальства ещё попляшет на нём, не упустит такой удачный случай, чтобы самим приподняться повыше. Прибавить себе авторитета. Хотя власти нашей, в общем, наплевать и на Кольцова, и на Никитина. Бережно ли хранят их прах и могилы, или затоптали их вконец и мусором засыпали. И даже свиней на эту пустошь пустили пастись. А всё же такая дурь гладко не сойдет. Россия, народ не простят. И власть, я думаю, хоть и туго, а это понимает. Ведь это всё равно, что уничтожить могилу Тараса Шевченко на Днепре. Смирится с этим Украина, позволит? Памятник Шопену в Варшаве. Да вся Польша зубами загрызёт того, кто покусится на Шопена. Нам, россиянам, конечно, в делах патриотизма, сохранения своего исторического, культурного наследия до поляков ух как далеко, но иногда и Россия на этой почве взрывается, встаёт на дыбы…
4.
Воздвигнутый скоростными методами цирк высился, похожий на… трудно сказать, на что именно, только не на Колизей. Колизей я видел, он оставляет совсем другое впечатление, торжественное, величественное, как музыка Баха, «Реквием» Моцарта, проникнут совсем иным духом. А воронежский уныло-серый цирк – скорее из мира техники, каких-то производств, где не нужна эстетика, а только лишь соответствие – и внутреннее, и внешнее – своему функциональному назначению. С какой стороны ни взгляни на цирк – что-то вроде какого-то цеха, резервуара для охлаждения больших количеств используемой в технических процессах воды… Или гигантского хранилища чего-то. Если отойти на некоторое расстояние и посмотреть сбоку – формою он просто калоша. Унылый серый цвет делает его старой, пыльной, вконец изношенной, годной только для мусорного ящика калошей.
У подножья возведенного ударными темпами сооружения грохотали бульдозеры, ковшовые экскаваторы, энергично взмахивая своими зубастыми ковшами; сновали грузовики-самосвалы, отвозя строительный мусор, кирпичные обломки, землю с торчащей из неё древесной щепой.
Небольшая часовенка, стоявшая на краю кладбищенской территории, близко к улице Кольцовской, была уже полностью уничтожена, на её месте громоздились остатки кирпичных стен, разбитых на большие и малые красноватые куски. Часовенка давно уже была брошена на произвол судьбы, никто за ней не смотрел, не ухаживал, не наводил в ней порядка. В ней не сохранилось ни одной иконы, каких-либо украшений. Тем не менее, даже в таком виде и состоянии она продолжала выполнять свою роль. Разного рода люди, особенно воронежские старики и старухи, почти ежедневно её посещали. Ставили на кирпичные выступы зажжённые свечи, неслышно в ней молились. Стариковские и старушечьи посещения стали гораздо чаще в последние дни, когда упорно заговорили о том, что часовня вот-вот будет разрушена.
И вот её нет. Ровесницы кольцовских времён, прибежища одиноких душ одиноких старых людей, которым больше некуда пойти, некуда понести свои горести и печали, свои слёзы…
Грохот мощных дизельных моторов, ссыпаемого из экскаваторных ковшей мусора в железные кузова самосвалов, передвигаемых широкими ножами бульдозеров кирпичных груд был таков, что даже на расстоянии от кипевшего труда глохли человеческие голоса, словно ватой закладывало уши.
Такой гул и грохот, в котором как бы полностью растворялось всё живое, я слышал только во время битвы на Курской дуге в 43 году, в котором участвовал солдатом-пехотинцем. Но там действовали «тигры» и «фердинанды» Гитлера, от веса которых прогибалась и тряслась на сотни метров вокруг земля. Здесь же, у цирка, действовала не менее мощная техника Поспеева. Было ясно видно, как спешат изо всех сил те, кто ею управляет: бульдозеристы, крановщики, водители грузовиков. Задание дано жёсткое, срочное: ещё в течение световых часов полностью очистить территорию перед цирком, идеально её заровнять, за ночь при свете прожекторов асфальтировщики покроют её асфальтом, а завтра первые зрители уже пойдут по этому свеженькому, ещё теплому, пахнущему смолой асфальту на первое цирковое представление. Конечно же, радуясь, какая деятельная, заботливая о людях в нашем городе власть, как удивительно хорошо, споро, умело, ловко получается у неё всё, за что она берётся. Ещё вчера возле цирка были только грязь, мусор, хаос, а сегодня – как по мановению волшебной палочки, будто старик Хоттабыч тут побывал со своим даром творить чудеса: чисто, гладко, красотища – да и только!
Привести прилегающую к цирку территорию в надлежащий вид у его создателей времени было более чем достаточно. Но, как всегда, как у нас водится во всех делах, въелось в плоть и в кровь – тянули, волынили с расчисткой подходов к цирку до самого последнего момента, а когда, как говорится, жареный петух клюнул в самое темечко, вот такая бешеная спешка. А раз спешка – значит, о качестве, о добротности не спрашивай. Забудь. Всё, что делается – делается кое-как, абы-абы. Лишь бы предъявить, отрапортовать: задание выполнено, все участники проявили образцы социалистического труда, заслуживают наград и премий!
Писатели возле могил известных всей России народных поэтов, обречённых главой воронежского горсовета Поспеевым на полное исчезновение с лица земли, появлялись один за другим. Кто приезжал на трамвае, кто на городских автобусах, кто прибывал пешком. Скоро собралось до двадцати человек. Пытаюсь вспомнить, кто же пришёл, кто составлял не очень большую, но плотную, настроенную крайне решительно группу защитников могил и памятников – и не получается. А не получается по той причине, что все мы как бы и не видели друг друга, смотрели в одну сторону – в перспективу улицы имени Кирова, ведущей к обкому партии, все были заняты одной мыслью, всех интересовало, волновало, тревожило одно: приедет ли Воротников? Может, уже видна, показалась его черная «Волга»? Ведь он же слывёт интеллигентом, говорят, читает книги. С писателями, правда, за все годы своего правления на Воронежской земле не встречался ни разу. Но это, возможно, ещё впереди. Но сейчас-то, сейчас – о каких именах идёт речь! И даже не зовут Воротникова, не просят, чтобы он появился, а требуют. Требуют! Целая толпа уже собралась. И где – на улице. На глазах всего города! Не может Воротников уклониться, пренебречь, не тот это случай, когда самый главный руководитель в области может так поступить, и не та историческая обстановка в стране, когда так поступали. Кончилось то время, ушло в прошлое бесповоротно!
Зато в памяти – с горьковатым привкусом – почему-то отчётливо отложилось, кого в тот день, в те минуты из наших сотоварищей по писательскому цеху не было среди тех, кто откликнулся на зов Люфанова. Причины отсутствия ясны и понятны. В каждом коллективе, большом и малом, есть люди, которые каждый свой шаг соразмеряют со своими карьерными интересами и выгодами, с тем – прибавит ли их поступок благорасположения к ним начальства или не прибавит? Или уменьшит – да ещё в очень значительной степени. Эти же самые причины действовали и тут. Тем более, что Люфанов звал на открытый демарш против начальства. И какого? Самого первого ранга. Это даже в определённом смысле положительный факт, что нашлись трусы, уклонисты, малодушные. Если нашлись трусы – тем выше хвалу и честь заслуживают те, кто, предвидя возможные кары и не убоявшись их, всё-таки собрался на демонстрацию протеста.
Людское сборище возле могил всё увеличивалось. Присоединялись простые горожане, мужчины и женщины, оказавшиеся по каким-то своим делам поблизости от могил. Кто шёл домой с работы, кто на рынок или с рынка, расположенного неподалеку, кто к трамвайной остановке, чтобы ехать на Левый берег. При известии, что могилы знаменитых русских поэтов и памятники с их именами будут сейчас сносить, для того и ревёт, и всё ближе надвигается на могилы вся эта скопившаяся у цирка техника, одних громадных бульдозеров шесть штук, у каждого из воронежцев вытягивалось лицо, каждый округлял глаза, у каждого вырывалось восклицание: «Да как же это можно?! Зачем же это делать? Это же не по-божески, не по-людски. Фашисты, уж на что зверюги, а памятники Кольцову и Никитину в городе пальцем не тронули. А свои крошат! Да за что ж это их, неужели это сделают?!»
На электромеханическом заводе, стоящем через перекрёсток, в начале улицы Кирова, окончилась дневная смена, рабочие расходились поодиночке и кучками. Прослышав, что готовятся совершить гудящие моторами бульдозеры, тоже присоединялись к толпе возле могил.
Шли художники после какого-то своего собрания, завершённого, конечно, как это всегда бывает, дружеской выпивкой, веселые, говорливые, с Васей Криворучко в центре своей компании. Тогда Вася был ещё без бороды и усов, сделавших его после почти что древним, библейских времён, старцем, а совсем ещё молод, крепок, здоров, мог по суткам не есть и не пить, занявшись каким-нибудь своим очередным холстом, или отправиться на этюды под таким весом красок, подрамников и прочего снаряжения на себе, что его бы не выдержала даже ломовая лошадь, пала бы, протянув ноги на половине пути.
Художники увидели писателей, подошли всей кучкой. И тоже взорвались:
– Да не может быть?! С ума, что ли, посходили?
Вася, будто был командиром над всеми, объявил:
– Ребята, остаёмся! Такое позволить нельзя. Я вот встану сейчас тут, на пути бульдозеров, и с места не сойду. Пусть давят меня вместе с Кольцовым, раз уж так!
И он действительно встал впереди всех, между могилами и «тиграми» Поспеева – решительный, непреклонный, с волевым выражением в своем рябом от перенесенной в детстве оспы лице. Словно один из тех легендарных панфиловцев, что загородили гитлеровским танкам дорогу на Москву и стояли насмерть – пока никого из них не осталось в живых.
А чёрная «Волга», которую с таким нетерпением ждали все, не показывалась.
Грохочущие же бульдозеры, то подвигавшие впереди себя к экскаваторным ковшам и самосвалам обломки деревьев и кирпичей, то с лязгом гусениц отползавшие назад, за новой такой же порцией, ворочались уже вплотную у некрополя. Над бульдозерами клубились пыль и дым. Чёрная, развороченная земля, грохот, заглушавший все другие звуки, густая пыль, густой дым – всё вместе создавало картину настоящего сражения. А старик Люфанов в клочьях седых волос вокруг лысой головы, с пышными седыми «генеральскими» усами, опирающийся на суковатую палку, стоявший к экскаваторам даже ещё ближе, чем Вася Криворучко, своим неустрашимым видом походил на полководца старых времен, одного из тех, что когда-то в знаменитых сражениях обороняли порученные им редуты. Например, на поле Бородина. Пусть не покажутся читателям надуманными, искусственными, чисто словесным узором эти слова. Каждый из тех, кто находился в те минуты в железном грохоте беспощадной техники у могил, я знаю, без единого возражения согласился бы, что я полностью прав. Близость праха бородинских героев окрашивала эти напряженные минуты именно в такие краски, придавала им именно такой смысл.
Грохот бульдозеров стал совсем оглушительным. Моментами казалось: вот-вот, и пышущие жаром, жуткой вонью перегретого масла машины с их ошалелыми от шума, грохота, темпов работы, поджимающих сроков водителями, держащими свои чёрные, измазанные руки на рычагах управления, повернут прямо на могилы и памятники, на собравшихся вокруг них людей, и станут давить, уже ничего не видя и не разбирая.
Конечно, большинство бы не устояло, попятилось назад, и за это не упрекнёшь. Но старик Люфанов, похожий на любого командира той далекой войны с Наполеоновским нашествием, и рябой Вася Криворучко, на Отечественной войне с немцами полевой телефонист, которого сотни раз посылали в самое огненное пекло налаживать перебитые осколками телефонные провода, остались бы перед надвигающимся железом на своих местах. Это точно. Могу ручаться. «Раз дошло до того, что давите Кольцова, так давите и меня вместе с ним. Жить в такой стране – не стоит. Нельзя. Невозможно!»
И тут наступил финал. И был он совсем неожиданным.
В прогале улицы Кирова со стороны обкома партии показалась… нет, не черная «Волга» Воротникова, а фигура бегущего Жени Тимофеева, возглавлявшего отдел культуры обкома. Видно, в эти минуты возле обкома не было ни одной автомашины, чтобы воспользоваться. А Женя отлично понимал, счёт идет буквально на секунды; если он опоздает – свершится непоправимое. Могли выручить только собственные ноги.
Женя приблизился, пот градом катился по его лицу.
– Я от Виталия Ивановича, сам он не может, ждёт важный звонок из Москвы. Он сказал: поступить так, как решат писатели. Скажут оставить – значит, оставить.
– Что скажем? – повернулся Люфанов к стоящей подле него толпе.
– Оставить! – взметнулся хор голосов.
Этот хор был насколько дружным и настолько громким, что даже заглушил бульдозеры, которые как раз в этот момент поворачивали свои ножи в сторону могил. Я думал, он даже проник в глубь земли, к праху наших знаменитых земляков, и был услышан ими – хотя по мнению специалиста по уничтожению кладбищ, надругательству над ними, Виктора Владимировича Поспеева никакого праха там, в земле, не осталось, даже самой малой пылинки от него…
5.
Сейчас, в эпоху вернувшегося к нам капитализма, да ещё в своем первоначальном, самом диком, безжалостном к людям виде, в людской молве в большом ходу фразы, что в этом мире ничто не обходится даром, за всё надо платить. В том числе, и за свои собственные деяния – как за дурные, так и за хорошие.
Из всех, кто спасал нерушимость упокоения двух наших поэтов старых времен, дороже всех расплатился Люфанов. Вскоре после открытой уличной демонстрации протеста, которую он самовольно, не спросясь начальства, не получив какого-либо согласия, разрешения на неё, не думая о возможных последствиях, организовал, его свалил инфаркт и надолго уложил на больничную койку. Сердце, его мышечный слой, словно вспорол острый нож – и на небывалую, в несколько сантиметров, длину.
Не скоро, но Люфанов всё же вышел из больницы. При выписке его снабдили справкой, в которой был обозначен диагноз. И даже был приложен чертёж – как выглядело его сердце вначале, при поступлении в больницу. Все медицински образованные люди, бравшие в руки эту справку, качали головами и не хотели ей верить. Считали, что в тексте ошибка, написано не то, что надо. Что было на самом деле. Потому что с таким разрывом сердечной ткани человек не может остаться в живых.
Находясь в Ялте, в Доме творчества литераторов, я рассказал о происшествии с Люфановым Анатолию Игнатьевичу Никаноркину, не только писателю, но и опытному врачу, бывшему фронтовому хирургу, сделавшему в годы войны своими руками сотни операций в области грудной клетки, на поражённых ранениями сердцах. Он сильно усомнился, не поверил тоже. Я предвидел такое его недоверчивое восприятие, на этот случай у меня была с собой ксерокопия выданной Люфанову в больнице справки. Я вынул её, показал Никаноркину. Справка со штампом, с круглой печатью. Не поверить такому документу нельзя.
Внимательно прочитав текст, Никаноркин сказал:
– Это просто чудо. Что ж – бывают и чудеса. Но редко. А такое чудо – один раз в сто лет и на всю планет.
<…>
21–25 сентября 2009 г.
• Гончаров Ю. Д. «Неужели это Россия и есть?» // Воронежский краеведческий вестник / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2010. – Вып. 11. – С. 15–53.
3.
<…> И вот – начало 70-х годов двадцатого века. Выстроен из железных конструкций и бетона цирк. На том самом месте, где на глубине трёх аршин лежали, а, может, ещё и сейчас лежат кости сотен воронежцев, среди которых немало таких, кто честью и правдой послужил своему городу, сделал для него немало хорошего, доброго; среди них есть и участники войны с Наполеоном, яростных битв с его армией, участники самого тяжкого, кровопролитнейшего сражения – Бородинского. Не один раз я сам лично держал в своих руках и читал в областном архиве родовые бумаги этих людей с упоминаниями об участии в сражении при Бородине. Чтить бы благоговейно подвиги этих героев, хранить бы нерушимо и бережно их покой. Но дикость и невежество не уважают прошедшего, – абсолютно верно, с болью в сердце сказал Пушкин. Теперь на костях достославных воронежцев будут кувыркаться размалеванные клоуны, орать истошными голосами, заливаться дурацким смехом. Спросить бы тех деятелей, что придумали ставить на кладбище цирк, на могилах своих же предков – что говорили им при этом их собственные души, внутренние чувства, моральные понятия – если, конечно, хоть что-то нравственное им полностью не чуждо? Да люди ли они вообще или не люди?
Но можно даже не спрашивать их об этом, ответ ясен и так. Решение о цирке, которое они дружно, согласно, без споров и колебаний приняли, подписали своими недрогнувшими руками, на вопрос: люди ли они или не люди, – отчётливо и однозначно само отвечает за них.
Время открытия цирка, запуска его в действие, обустройства прилегающей территории подходило всё ближе, а ясного, точного ответа – что же станется с прахом и памятниками на могилах двух великих народных русских поэтов, горсовет так и не давал.
В один из осенних дней глава воронежской писательской организации Евгений Дмитриевич Люфанов отправился к Поспееву выяснять эти волнующие многих воронежцев обстоятельства.
Нисколько не преувеличу, если скажу: это просто счастье, что тогда, в тот момент, воронежских писателей возглавлял Евгений Дмитриевич Люфанов. Я перебираю в мыслях всех других, кто в разные периоды, до Люфанова и после, стоял во главе писательской организации, и думаю: пошёл бы кто-нибудь из них вот так решительно в горсовет ругаться с Поспеевым, сказать ему в лицо и в адрес всего горсовета всё то, что они должны услышать, заслужили и своим цирком на могилах, и тем, что только собираются ещё совершить. Никто бы из других руководителей писательского союза в горсовет на бой с Поспеевым не пошёл бы, утверждаю это с полной уверенностью, зная прекрасно всех этих людей. Ни Костя Локотков, который за все 17 лет своего пребывания в должности председателя правления делал только лишь одно: получал положенную председателю зарплату. Ни Гордейчев, которого дважды снимали с председательского поста за нечистые проделки. Ни Виктор Михайлович Попов, который хотя и написал несколько прозаических книг, всё-таки настоящим писателем не был, так и остался на уровне журналиста ведомственной, железнодорожной газеты, из которой он пришёл в писательскую среду. Все из названных, как и другие, всегда стояли перед любым начальством навытяжку, ни единым словом, звуком даже, не прекословя, готовые тут же исполнить любые указания, любую волю вышестоящих лиц.
Люфанов же не боялся никого и ничего. Возраст его шагнул за отметку «70», в таком возрасте уже и сама смерть не страшна, каждый человек к ней готов и уже её ожидает. Люфанов не являлся членом партии, никогда в ней не состоял и не думал в неё вступать. Причина была одна: не хотел подчинять себя беспрекословной дисциплине. Свобода чувств, мыслей, свобода собственного внутреннего мира от всего, что укорачивает, обедняет личность, лишает её индивидуальности – была ему дороже, чем те чисто практические, меркантильные выгоды, которые получали люди, вступив в партию, обретя членский билет, который в расхожем бытовом языке, чуждом фальши, приукрашивания, откровенно обнажая суть, попросту назывался «хлебной карточкой». Люфанова нельзя было лишить собственной воли, отнять у него возможность действовать по велению своего сердца, совести, своих личных понятий, вызвав его в райком или в обком и, угрожая «мерами» поигрывая желваками, с силой нажать на него, как это проделывалось со многими из членов партии: или ты действуешь, говоришь на собрании, поднимаешь при голосовании свою руку вот так – ибо так положено в данном случае каждому коммунисту, потому что такова линия партии, указания ЦэКа, лично товарища Н. или товарища Н. Н., или выкладывай партийный билет на стол и на все четыре стороны к такой-то матери!..
Люфанов был ленинградец, пережил всю, с начала и до конца, ленинградскую блокаду. Состоял в ополчении из ленинградских рабочих и служащих, пока они ещё были в силах носить на себе винтовки. Голодал, мёрз, должен был умереть от истощения, но на чердаке Дома писателей нашли несколько забытых там когда-то бумажных мешков с плитками столярного клея. Из этих плиток в столовой Дома, где давно от голода передохли даже мыши, стали варить жиденький бульон, отпускать каждому писателю по кружке в день, и этих кружек хватило до той поры, когда под Невской Дубровкой, поднявшись в атаку в тысячный, наверное, раз, усталые, измотанные части Красной армии прорвали, наконец, блокадное кольцо и вошли в Ленинград, принеся с собой блокадникам освобождение, жизнь, уже забытый большинством хлеб и всякое другое продовольствие.
Происходил Люфанов из рабочей среды и в молодые годы сам был рабочим. И не на каких-то лёгких, пустяковых работах, а в одной из самых тяжких профессий – котельщиком. Упрямое, неподатливое железо, нагревы до тысячи градусов и выше, гром кувалд, от которого, как правило, люди, определившие себя в такие дела, через несколько лет полностью глохнут.
В писательстве Люфанов стоял крепко. Был серьёзно начитан, глубоко знал российскую историю всех времён. Переехав из Ленинграда в Воронеж по необходимости переменить климат, за двенадцать лет жизни на новом месте написал три больших романа о Ленине. Однажды, будучи в Москве, мы шли с ним по улице Горького мимо памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. Показывая на вздымающуюся за памятником громаду архивохранилища с документами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Люфанов мне сказал:
– Всё, что там находится, я, конечно, не прочитал и вряд ли прочитаю. Но половину – это точно.
В последний его юбилей к ленинградским медалям на его груди прибавился орден Трудового Красного знамени. С первым писателем России Михаилом Шолоховым у Люфанова большая дружба. Ездит к Шолохову в Вёшенскую, ловят вместе рыбу в Дону и на Хопре, пьют чаи из самовара на веранде, а, случается, и не только чай.
Чего такому человеку в ранге главы воронежской писательской организации, третьей по численности после Москвы и Ленинграда, робеть и трепетать, идя в горсовет к Поспееву, временной фигуре на своей должности. Трех романов о Ленине Поспеев не написал и не напишет, даже ни одной горсоветской бумажки не написал сам, это делают за него секретари и помощники, он только размашисто их подписывает. Орден Трудового Красного знамени на его груди не сверкает. Что касается Шолохова – то он даже имени Поспеева никогда не слыхал… Городской начальник? Пережитая блокада изменила в Люфанове все мерки, какие обычно прикладывают к людям, наглядно показала, за что на самом деле следует ценить и уважать людей, а вовсе не за то, кто какой начальник. Достоин уважения, например, тот, кто в часы обстрела города из дальнобойных германских орудий сходил по обледенелой улице к Неве, к проруби, и принёс бидон воды. Да не себе, а для соседа, который не может сам это сделать, слаб, истощён, не в силах даже самостоятельно сползти с кровати.
Вернулся Люфанов после разговора с Поспеевым расстроенный, мрачный, злой.
– Оказывается, там, в горсовете, под словом «благоустройство» понимали совсем другое: не то, что мы, которым они всё время это слово повторяли. Полное уничтожение могил! – вот что такое для них «благоустройство». А теперь заговорили в открытую, совсем другим, понятным языком: а куда их девать? Не перешагивать же через них цирковая публика будет? Поспеев на меня прямо обрушился: вы, то есть – я, всё твердите: прах, прах, великих поэтов прах. Да никакого праха там нет, я вам это как специалист говорю, я восемь кладбищ в Воронеже ликвидировал, знаю, что с прахом бывает и через сколько лет. Хотите, дам вам полукубовый экскаватор, копайте, убедитесь, что говорю правду. А тумбы – это он так памятники на могилах называет, – сказал Люфанов, – перенесём, куда укажете. Хотите, на двор Никитинского музея, места там достаточно. Хотите, к вам в Союз писателей, на третий этаж. Только больно уж тяжелы, боюсь, не выдержат перекрытия… Ну, это он для юмора, такой у Поспеева юмор… Он и пошутить, оказывается, не прочь.
– И что же теперь будет? – спросили Люфанова те, кто находился в помещении Союза и слышал его рассказ.
– Что… Пойду к Воротникову, буду говорить с ним. Он всё-таки человек с головой на плечах, должен понимать, что собирается сделать Поспеев. Как это аукнется по всей стране, в народе…
– Побывать у Воротникова, первого секретаря обкома, Люфанов не успел. На другой день в послеобеденное время в Союз писателей позвонила женщина, простая воронежская жительница, и взволнованно, сбивчиво, почти закричала в телефонную трубку:
– Что же вы сидите, писатели, ничего не предпринимаете, ведь памятники на могилах Кольцова и Никитина сносят! Возле них уже бульдозеры гудят, пыль столбом. Действуйте же! Да как же это можно, кто же это разрешил? С ума, что ли, спятили, соображения у наших начальников совсем, что ли, нет?!
Люфанов тут же набрал телефон приемной Воротникова. С Воротниковым его не соединили.
– Кто звонит, по какому поводу? Изложите суть дела.
Первой половины того, что произносил в трубку Люфанов, я не слышал, меня не было в это время в Союзе. Я только в него в это время шёл, поднимался по лестнице, брался за ручку входной двери и её открывал. А когда открыл – услышал во всю силу голоса крик Люфанова:
– …Я не прошу, так и скажите Виталию Ивановичу, не прошу, а требую, чтобы он явился на место преступления сам и лично присутствовал при уничтожении могил. Раз ему было доложено, он согласился с безумным распоряжением Поспеева, так пусть и вся полнота ответственности ложится на него. Пусть потом не виляет: да мне не так доложили, я не так говорил… А я сейчас же собираю у могил всех писателей, воронежских журналистов, учёных из университета – пусть будут свидетелями этого злодеяния, пусть оно произойдет у них на глазах. Пусть видят, каковы в Воронеже партийные и советские начальники, народные избранники, слуги народа, каких слов заслуживают они сами и их деяния. Виталий Иванович занят? Чем можно заниматься в такие минуты, когда творится такое? Что может быть важнее? Прервите! А я говорю – прервите!.. Иначе Виталий Иванович будет горько жалеть потом. А виновником окажетесь вы, личный помощник первого секретаря. Почему? Потому что не доложили, а надо немедленно доложить.
Таким, каким он был в эти минуты своего бешеного крика в телефонную трубку, я не видел Люфанова ещё никогда. Даже не предполагал, что он может таким быть: лицо тёмно-бурачного цвета от прилива крови, на губах пена, телефонная трубка прыгает возле его уха, левая рука сжата в кулак, подкрепляя слова, стучит по толстому стеклу, покрывающему председательский стол, того гляди его расколет.
– Мария Григорьевна, – бросив трубку, крикнул Люфанов в соседнюю комнату секретарше Союза, – звоните всем писателям, пусть срочно собираются у могил Кольцова и Никитина, на перекрестке Кирова и Кольцовской. Кто живёт далеко, кому долго добираться – пусть берут такси, оплатим после из средств Союза. Если кто из писателей появится здесь – пусть тоже срочно туда, к могилам. И я туда ухожу.
Мы пошли вместе. Шли быстро. Кровь продолжала оставаться в лице Люфанова. Он задыхался и всё же на ходу говорил:
– Если, не дай Бог, всё-таки произойдёт то, что задумал Поспеев, и Воротников, как Поспеев говорит, дал ему на это своё «добро», то Воротникову это так не сойдет, партийной карьере его конец. И кое-кто из его соратников, окружения и верховного начальства ещё попляшет на нём, не упустит такой удачный случай, чтобы самим приподняться повыше. Прибавить себе авторитета. Хотя власти нашей, в общем, наплевать и на Кольцова, и на Никитина. Бережно ли хранят их прах и могилы, или затоптали их вконец и мусором засыпали. И даже свиней на эту пустошь пустили пастись. А всё же такая дурь гладко не сойдет. Россия, народ не простят. И власть, я думаю, хоть и туго, а это понимает. Ведь это всё равно, что уничтожить могилу Тараса Шевченко на Днепре. Смирится с этим Украина, позволит? Памятник Шопену в Варшаве. Да вся Польша зубами загрызёт того, кто покусится на Шопена. Нам, россиянам, конечно, в делах патриотизма, сохранения своего исторического, культурного наследия до поляков ух как далеко, но иногда и Россия на этой почве взрывается, встаёт на дыбы…
4.
Воздвигнутый скоростными методами цирк высился, похожий на… трудно сказать, на что именно, только не на Колизей. Колизей я видел, он оставляет совсем другое впечатление, торжественное, величественное, как музыка Баха, «Реквием» Моцарта, проникнут совсем иным духом. А воронежский уныло-серый цирк – скорее из мира техники, каких-то производств, где не нужна эстетика, а только лишь соответствие – и внутреннее, и внешнее – своему функциональному назначению. С какой стороны ни взгляни на цирк – что-то вроде какого-то цеха, резервуара для охлаждения больших количеств используемой в технических процессах воды… Или гигантского хранилища чего-то. Если отойти на некоторое расстояние и посмотреть сбоку – формою он просто калоша. Унылый серый цвет делает его старой, пыльной, вконец изношенной, годной только для мусорного ящика калошей.
У подножья возведенного ударными темпами сооружения грохотали бульдозеры, ковшовые экскаваторы, энергично взмахивая своими зубастыми ковшами; сновали грузовики-самосвалы, отвозя строительный мусор, кирпичные обломки, землю с торчащей из неё древесной щепой.
Небольшая часовенка, стоявшая на краю кладбищенской территории, близко к улице Кольцовской, была уже полностью уничтожена, на её месте громоздились остатки кирпичных стен, разбитых на большие и малые красноватые куски. Часовенка давно уже была брошена на произвол судьбы, никто за ней не смотрел, не ухаживал, не наводил в ней порядка. В ней не сохранилось ни одной иконы, каких-либо украшений. Тем не менее, даже в таком виде и состоянии она продолжала выполнять свою роль. Разного рода люди, особенно воронежские старики и старухи, почти ежедневно её посещали. Ставили на кирпичные выступы зажжённые свечи, неслышно в ней молились. Стариковские и старушечьи посещения стали гораздо чаще в последние дни, когда упорно заговорили о том, что часовня вот-вот будет разрушена.
И вот её нет. Ровесницы кольцовских времён, прибежища одиноких душ одиноких старых людей, которым больше некуда пойти, некуда понести свои горести и печали, свои слёзы…
Грохот мощных дизельных моторов, ссыпаемого из экскаваторных ковшей мусора в железные кузова самосвалов, передвигаемых широкими ножами бульдозеров кирпичных груд был таков, что даже на расстоянии от кипевшего труда глохли человеческие голоса, словно ватой закладывало уши.
Такой гул и грохот, в котором как бы полностью растворялось всё живое, я слышал только во время битвы на Курской дуге в 43 году, в котором участвовал солдатом-пехотинцем. Но там действовали «тигры» и «фердинанды» Гитлера, от веса которых прогибалась и тряслась на сотни метров вокруг земля. Здесь же, у цирка, действовала не менее мощная техника Поспеева. Было ясно видно, как спешат изо всех сил те, кто ею управляет: бульдозеристы, крановщики, водители грузовиков. Задание дано жёсткое, срочное: ещё в течение световых часов полностью очистить территорию перед цирком, идеально её заровнять, за ночь при свете прожекторов асфальтировщики покроют её асфальтом, а завтра первые зрители уже пойдут по этому свеженькому, ещё теплому, пахнущему смолой асфальту на первое цирковое представление. Конечно же, радуясь, какая деятельная, заботливая о людях в нашем городе власть, как удивительно хорошо, споро, умело, ловко получается у неё всё, за что она берётся. Ещё вчера возле цирка были только грязь, мусор, хаос, а сегодня – как по мановению волшебной палочки, будто старик Хоттабыч тут побывал со своим даром творить чудеса: чисто, гладко, красотища – да и только!
Привести прилегающую к цирку территорию в надлежащий вид у его создателей времени было более чем достаточно. Но, как всегда, как у нас водится во всех делах, въелось в плоть и в кровь – тянули, волынили с расчисткой подходов к цирку до самого последнего момента, а когда, как говорится, жареный петух клюнул в самое темечко, вот такая бешеная спешка. А раз спешка – значит, о качестве, о добротности не спрашивай. Забудь. Всё, что делается – делается кое-как, абы-абы. Лишь бы предъявить, отрапортовать: задание выполнено, все участники проявили образцы социалистического труда, заслуживают наград и премий!
Писатели возле могил известных всей России народных поэтов, обречённых главой воронежского горсовета Поспеевым на полное исчезновение с лица земли, появлялись один за другим. Кто приезжал на трамвае, кто на городских автобусах, кто прибывал пешком. Скоро собралось до двадцати человек. Пытаюсь вспомнить, кто же пришёл, кто составлял не очень большую, но плотную, настроенную крайне решительно группу защитников могил и памятников – и не получается. А не получается по той причине, что все мы как бы и не видели друг друга, смотрели в одну сторону – в перспективу улицы имени Кирова, ведущей к обкому партии, все были заняты одной мыслью, всех интересовало, волновало, тревожило одно: приедет ли Воротников? Может, уже видна, показалась его черная «Волга»? Ведь он же слывёт интеллигентом, говорят, читает книги. С писателями, правда, за все годы своего правления на Воронежской земле не встречался ни разу. Но это, возможно, ещё впереди. Но сейчас-то, сейчас – о каких именах идёт речь! И даже не зовут Воротникова, не просят, чтобы он появился, а требуют. Требуют! Целая толпа уже собралась. И где – на улице. На глазах всего города! Не может Воротников уклониться, пренебречь, не тот это случай, когда самый главный руководитель в области может так поступить, и не та историческая обстановка в стране, когда так поступали. Кончилось то время, ушло в прошлое бесповоротно!
Зато в памяти – с горьковатым привкусом – почему-то отчётливо отложилось, кого в тот день, в те минуты из наших сотоварищей по писательскому цеху не было среди тех, кто откликнулся на зов Люфанова. Причины отсутствия ясны и понятны. В каждом коллективе, большом и малом, есть люди, которые каждый свой шаг соразмеряют со своими карьерными интересами и выгодами, с тем – прибавит ли их поступок благорасположения к ним начальства или не прибавит? Или уменьшит – да ещё в очень значительной степени. Эти же самые причины действовали и тут. Тем более, что Люфанов звал на открытый демарш против начальства. И какого? Самого первого ранга. Это даже в определённом смысле положительный факт, что нашлись трусы, уклонисты, малодушные. Если нашлись трусы – тем выше хвалу и честь заслуживают те, кто, предвидя возможные кары и не убоявшись их, всё-таки собрался на демонстрацию протеста.
Людское сборище возле могил всё увеличивалось. Присоединялись простые горожане, мужчины и женщины, оказавшиеся по каким-то своим делам поблизости от могил. Кто шёл домой с работы, кто на рынок или с рынка, расположенного неподалеку, кто к трамвайной остановке, чтобы ехать на Левый берег. При известии, что могилы знаменитых русских поэтов и памятники с их именами будут сейчас сносить, для того и ревёт, и всё ближе надвигается на могилы вся эта скопившаяся у цирка техника, одних громадных бульдозеров шесть штук, у каждого из воронежцев вытягивалось лицо, каждый округлял глаза, у каждого вырывалось восклицание: «Да как же это можно?! Зачем же это делать? Это же не по-божески, не по-людски. Фашисты, уж на что зверюги, а памятники Кольцову и Никитину в городе пальцем не тронули. А свои крошат! Да за что ж это их, неужели это сделают?!»
На электромеханическом заводе, стоящем через перекрёсток, в начале улицы Кирова, окончилась дневная смена, рабочие расходились поодиночке и кучками. Прослышав, что готовятся совершить гудящие моторами бульдозеры, тоже присоединялись к толпе возле могил.
Шли художники после какого-то своего собрания, завершённого, конечно, как это всегда бывает, дружеской выпивкой, веселые, говорливые, с Васей Криворучко в центре своей компании. Тогда Вася был ещё без бороды и усов, сделавших его после почти что древним, библейских времён, старцем, а совсем ещё молод, крепок, здоров, мог по суткам не есть и не пить, занявшись каким-нибудь своим очередным холстом, или отправиться на этюды под таким весом красок, подрамников и прочего снаряжения на себе, что его бы не выдержала даже ломовая лошадь, пала бы, протянув ноги на половине пути.
Художники увидели писателей, подошли всей кучкой. И тоже взорвались:
– Да не может быть?! С ума, что ли, посходили?
Вася, будто был командиром над всеми, объявил:
– Ребята, остаёмся! Такое позволить нельзя. Я вот встану сейчас тут, на пути бульдозеров, и с места не сойду. Пусть давят меня вместе с Кольцовым, раз уж так!
И он действительно встал впереди всех, между могилами и «тиграми» Поспеева – решительный, непреклонный, с волевым выражением в своем рябом от перенесенной в детстве оспы лице. Словно один из тех легендарных панфиловцев, что загородили гитлеровским танкам дорогу на Москву и стояли насмерть – пока никого из них не осталось в живых.
А чёрная «Волга», которую с таким нетерпением ждали все, не показывалась.
Грохочущие же бульдозеры, то подвигавшие впереди себя к экскаваторным ковшам и самосвалам обломки деревьев и кирпичей, то с лязгом гусениц отползавшие назад, за новой такой же порцией, ворочались уже вплотную у некрополя. Над бульдозерами клубились пыль и дым. Чёрная, развороченная земля, грохот, заглушавший все другие звуки, густая пыль, густой дым – всё вместе создавало картину настоящего сражения. А старик Люфанов в клочьях седых волос вокруг лысой головы, с пышными седыми «генеральскими» усами, опирающийся на суковатую палку, стоявший к экскаваторам даже ещё ближе, чем Вася Криворучко, своим неустрашимым видом походил на полководца старых времен, одного из тех, что когда-то в знаменитых сражениях обороняли порученные им редуты. Например, на поле Бородина. Пусть не покажутся читателям надуманными, искусственными, чисто словесным узором эти слова. Каждый из тех, кто находился в те минуты в железном грохоте беспощадной техники у могил, я знаю, без единого возражения согласился бы, что я полностью прав. Близость праха бородинских героев окрашивала эти напряженные минуты именно в такие краски, придавала им именно такой смысл.
Грохот бульдозеров стал совсем оглушительным. Моментами казалось: вот-вот, и пышущие жаром, жуткой вонью перегретого масла машины с их ошалелыми от шума, грохота, темпов работы, поджимающих сроков водителями, держащими свои чёрные, измазанные руки на рычагах управления, повернут прямо на могилы и памятники, на собравшихся вокруг них людей, и станут давить, уже ничего не видя и не разбирая.
Конечно, большинство бы не устояло, попятилось назад, и за это не упрекнёшь. Но старик Люфанов, похожий на любого командира той далекой войны с Наполеоновским нашествием, и рябой Вася Криворучко, на Отечественной войне с немцами полевой телефонист, которого сотни раз посылали в самое огненное пекло налаживать перебитые осколками телефонные провода, остались бы перед надвигающимся железом на своих местах. Это точно. Могу ручаться. «Раз дошло до того, что давите Кольцова, так давите и меня вместе с ним. Жить в такой стране – не стоит. Нельзя. Невозможно!»
И тут наступил финал. И был он совсем неожиданным.
В прогале улицы Кирова со стороны обкома партии показалась… нет, не черная «Волга» Воротникова, а фигура бегущего Жени Тимофеева, возглавлявшего отдел культуры обкома. Видно, в эти минуты возле обкома не было ни одной автомашины, чтобы воспользоваться. А Женя отлично понимал, счёт идет буквально на секунды; если он опоздает – свершится непоправимое. Могли выручить только собственные ноги.
Женя приблизился, пот градом катился по его лицу.
– Я от Виталия Ивановича, сам он не может, ждёт важный звонок из Москвы. Он сказал: поступить так, как решат писатели. Скажут оставить – значит, оставить.
– Что скажем? – повернулся Люфанов к стоящей подле него толпе.
– Оставить! – взметнулся хор голосов.
Этот хор был насколько дружным и настолько громким, что даже заглушил бульдозеры, которые как раз в этот момент поворачивали свои ножи в сторону могил. Я думал, он даже проник в глубь земли, к праху наших знаменитых земляков, и был услышан ими – хотя по мнению специалиста по уничтожению кладбищ, надругательству над ними, Виктора Владимировича Поспеева никакого праха там, в земле, не осталось, даже самой малой пылинки от него…
5.
Сейчас, в эпоху вернувшегося к нам капитализма, да ещё в своем первоначальном, самом диком, безжалостном к людям виде, в людской молве в большом ходу фразы, что в этом мире ничто не обходится даром, за всё надо платить. В том числе, и за свои собственные деяния – как за дурные, так и за хорошие.
Из всех, кто спасал нерушимость упокоения двух наших поэтов старых времен, дороже всех расплатился Люфанов. Вскоре после открытой уличной демонстрации протеста, которую он самовольно, не спросясь начальства, не получив какого-либо согласия, разрешения на неё, не думая о возможных последствиях, организовал, его свалил инфаркт и надолго уложил на больничную койку. Сердце, его мышечный слой, словно вспорол острый нож – и на небывалую, в несколько сантиметров, длину.
Не скоро, но Люфанов всё же вышел из больницы. При выписке его снабдили справкой, в которой был обозначен диагноз. И даже был приложен чертёж – как выглядело его сердце вначале, при поступлении в больницу. Все медицински образованные люди, бравшие в руки эту справку, качали головами и не хотели ей верить. Считали, что в тексте ошибка, написано не то, что надо. Что было на самом деле. Потому что с таким разрывом сердечной ткани человек не может остаться в живых.
Находясь в Ялте, в Доме творчества литераторов, я рассказал о происшествии с Люфановым Анатолию Игнатьевичу Никаноркину, не только писателю, но и опытному врачу, бывшему фронтовому хирургу, сделавшему в годы войны своими руками сотни операций в области грудной клетки, на поражённых ранениями сердцах. Он сильно усомнился, не поверил тоже. Я предвидел такое его недоверчивое восприятие, на этот случай у меня была с собой ксерокопия выданной Люфанову в больнице справки. Я вынул её, показал Никаноркину. Справка со штампом, с круглой печатью. Не поверить такому документу нельзя.
Внимательно прочитав текст, Никаноркин сказал:
– Это просто чудо. Что ж – бывают и чудеса. Но редко. А такое чудо – один раз в сто лет и на всю планет.
<…>
21–25 сентября 2009 г.
• Гончаров Ю. Д. «Неужели это Россия и есть?» // Воронежский краеведческий вестник / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2010. – Вып. 11. – С. 15–53.