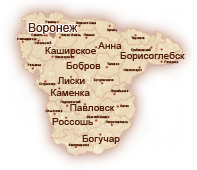Иванов, сын Иванова (Волохов Фёдор Сергеевич)
Волохов Ф. Иванов, сын Иванова // Неприметный человек : рассказы / Ф. Волохов. – Воронеж, 1957. – С. 106–124.
1.
Первым, кого встретил сержант Иванов в Обручевке, был хромой, чёрный, как молодой цыган, и всегда словоохотливый Никита Долгих. Жил он почти на самом краю деревни, при въезде на главную просторную улицу. Когда Иванов поравнялся с двором Никиты, он, хозяйствуя у новой, недавно поставленной пятистенки, месил глину. Без рубахи, в подвёрнутых выше кщлен штанах, Никита, налегая на правую, здоровую ногу, взмахивал коричневыми от загара руками, кряхтел и что-то невнятное бормотал себе под нос. Дважды обойдя замес по кругу, и заметив военного, шагавшего вдоль обочины грейдера, он остановился, будто размышляя над тем, что же ему делать дальше, и вдруг закричал:
– Настасья, а Настасья! Гляди, кто идёт!
Из окна выглянула жена Никиты, хмурая, злая, и недовольно спросила:
– Ну, кто? Где? Чего раскудахтался!
Но Никитина, уже не слушал её. Выбравшись из вязкой и липкой глины, он, на ходу вытирая красный от жары и мокрый от пота лоб, торопливо побрёл навстречу Иванову.
– А я тебя сразу увидел, – нерешительно протягивая руку, сказал Никита. – И по обличью, и по шагу определил. Только глянул – и в один миг сообразил: Михайла Иванов возворотился. Уж больно шаг твой знакомый, отцовский. Насовсем или на побывку? Насовсем. Значит, всё сполна отслужил и домой? Ладное дело.
Отступив несколько назад, Никита замотал кудрявой, в чёрных с проседью завитушках, головой и, блеснув белками карих глаз, весело протянул:
– А-а ты, брат, прояснился. Был Мишкой, а стал, вроде, шишкой. Прямо герой, чистый генерал, а то и выше. – И лукаво добавил: – пропали наши девки, пропали...
Подошли к избе, в тени сели на пересохшую колючую солому, пахнущую никогда не забываемым запахом овинов, скирд, копен, закурили, и лишь теперь Иванов почувствовал, что он уже дома. Точно проверяя себя, он на мгновение прищурил глаза, ясно различая дрожащую даль улицы. Ему казалось, что он видит и родной дом, и старый, посаженный ещё дедом, берест, и скворешню над ним, поставленную три года назад. А вот на некогда лысом и истоптанном бугорке стоит школа, где, кажется, совсем недавно писал сочинение на аттестат зрелости.
Иванов молчал.
А Никита, с жадностью затягиваясь душистой папиросой, теребил его за руку, советовал:
– Главное, не поспешай, не рвись, как горячий конь на крутогорок. Посиди, приглядись, понюхай, чем где пахнет, а потом и должность себе выбирай. У нас, в Обручевке, почитай, почти все мужики при должностях. Ванька Тиунов – в сельпе кульки заворачивает, рыло наедает, Тимоха Красильников – в счетоводах значится, Данилы Гончарова сын, Егорий, – в номенклатуре какой-то состоит, третий месяц без дела… Э, да чего говорить, одни бабы, да хромой Никита с ними в полях воители… Понял? Обратно же, если по человечности сказать, о своём хозяйстве ты должен подумать. Намедни с Лукерьей Емельяновной разговор имел, поспрошал – как, чего, что? Бодрится мамаша твоя, а у самой плечи опущены, на глаза будто густой туман лёг, застил… Так-то…
Никита помолчал, покосился на смуглую, лоснящуюся щёку сержанта, определил: «справный» и, несколько обеспокоенный неразговорчивостью собеседника, неуверенно закончил:
– Ты подумай, подумай!.. Может, в город подашься, а может, ещё куда, где харч слаще…
– Ладно, подумаю, дядя Никита, – нехотя ответил Иванов и спросил: – А ты что же – помимо колхоза живёшь?
– Я-то? Боже упаси! – Никита сплюнул и, тяжело поднимаясь, ответил: – Живу без горя, а всё не сладко. Хозяйство заело, да и баба грызёт… Пойду, уже наверное, раскалилась…
В родную избу Иванов вошёл без стука: и в сени, и в горницу двери были открыты настежь. На кухне Иванов увидел мать. Она стояла у лавки, мыла посуду, и когда он тихонько окликнул её, Лукерья Емельяновна вздрогнула, уронила тарелку, и, обернувшись, несколько секунд смотрела на сына скорбным, непонимающим взглядом. Очнувшись, непривычно молодо подбежала к нему, мокрой рукой обняла шею, а другой – упёрлась в карман гимнастёрки и заплакала.
– Не надо, мама, не надо, – успокаивал её Иванов, чувствуя, как она вся вздрагивает и тяжело дышит. – Вернулся… в полном порядке… теперь опять вместе...
В горнице всё было таким же, как и в день отъезда Иванова в армию. На полу, от порога до спальни, пролегали чистые лоскутовые дорожки, стол покрыт полотняной, с выцветшей по краям вышивкой скатертью, тот же платяной шкаф, те же неутомимые часы-ходики с гаечкой, привязанной к гирьке. А вот книг стало больше. Ими была забита вся этажерка, они лежали на полу, на подоконнике и даже на диване. «Димка старается», – решил Иванов. На простенке между окнами во двор он увидел рядом с фотографией отца свою, где он был снят у развёрнутого полкового знамени. «Второго года службы», – с грустью вспомнил Иванов. – Майор Терещенко посылал матери». Затем он долго и пристально рассматривал фотографию отца, первую и последнюю, полученную от него с фронта, откуда-то из-за Дуная. С пятнисто-серого снимка на Иванова смотрели умные, строгие глаза солдата, много увидевшего и пережившего на своём веку.
– Да-а, – по взрослому, сорвавшимся баском протянул Иванов, поправляя немного перекосившуюся фотографию отца и не замечая у порога растерянного брата Димку. Когда Иванов обернулся, Димка с разбегу подбежал к нему, головой стукнулся о грудь, обхватил тонкими руки поясницу, затем, отшатнувшись, обидчиво сказал:
– Мы тебя ждали, ждали…
– Кончился срок – я и явился. Как положено.
– Да, положено… И Вера про тебя спрашивала.
– Какая Вера?
– Соседская… Дехтярёва…
Во дворе сиплыми голосами закричали молоденькие петушки; сначала один, потом другой и сразу все. Димка, с нескрываемым любопытством рассматривавший чёрные бархатные погоны и отливающие позолотой значки на гимнастёрке брата, услышав этот крик, привычно заметил:.
– Верины петушки заиграли – сказал он.
– Чьи, чьи? Почему Верины?
– А потому. Вера на пэтэфэ работает и часто премии получает. Последний раз сорок цыплаков выдали. А куда ей столько? Вот она и подарила нам десяток. Я их сам кормлю. Выросли. Хочешь поглядеть?
Лукерья Емельяновна суетилась на кухне, два раза гремела погребицей в сенях, сбегала зачем-то к соседям и почти не слышала, о чём толковали сыновья. Но всё это время она чувствовала, как увереннее и твёрже становятся на землю её ноги, как наливаются огнём давно не пылавшие щёки. Ей временами даже казалось, что она по-прежнему молода, красива, что Мише всего семь лет, а Димка только учится ходить и часто падает, молча поднимается и не плачет. Чудилось, что вот и щедрое летнее солнце скоро покатится к земле, шатристый берест накроет своей тенью двор, потянется к сходням крыльца, явится муж, как всегда усталый, пыльный, пахнущий полем, и как всегда, увидев детей, весело спросит:
– Ну, вояки, как вы тут?
На минуту задержавшись в горнице, Лукерья Емельяновна неожиданно для себя заметила, что старший сын за минувшие три года стал взрослее и задумчивей, и всё более походит на отца, когда тот был молодым парнем. Тронутая этим замечательным сходством, она с гордостью подумала, что вот и после смерти мужа каждый, посмотрев на сына, вспомнит, каков был он, её муж.
– Иди, Миша, помойся. Я водички согрела, – сказала Лукерья Емельяновна.
– Что ты, мама. Мы с Димкой на речку сходим. Раз – и чистые!
Лукерье Емельяновне не хотелось, чтобы старший сын выходил из дома хоть на одну минуту и даже на речку, где его, наверное, в такой час никто не увидит. Она вспомнила, как мыла его маленького, как он, багровея и брызгаясь, исступленно кричал и вырывался из корыта.
– Может, не пойдёшь… дома-то лучше вымоешься, – просящее тихо сказала Лукерья Емельяновна, но, видя с какой поспешностью Михаил открыл чемодан, достал мыло, полотенце, аккуратно сложенные майку и трусы, уступила.
– Только не надолго, – попросила она. – Ты искупаешься, а Димка тем временем в магазин сбегает, да и к нашим наведается, тёткам скажет…
2.
На берегу было тепло, тихо. Река пахла осокой, камышом, тиной, а луг – свежим душистым сеном. Раздевшись, Михаил лёг на мягкую гусиную травку и лишь на одно мгновение закрыл глаза, как кто-то отчётливо произнёс:
– Иванов! Кому приказано?! – И затем с укоризной отметил: – Разболтались, товарищ сержант!
Озадаченный таким замечанием, Михаил пытался подняться, но не мог. Ноги оказались, тяжёлыми, точно привязанными к земле, а руки непослушными, вялыми, чужими. Он уже ясно видел, как товарищи по взводу оделись, быстро построились в шеренгу и тут же исчезли в густых зарослях лозняка.
– Подождите, подождите! – закричал Михаил. – Я сейчас, только оденусь.
Собравшись с силами, он упёрся ладонями в землю, слегка приподнялся и… проснулся.
День клонился к вечеру. Небо по-прежнему было безоблачно чистым, но солнце не слепило глаза. Оно, как бы оберегая сон Иванова, укрылось за густыми купами двух раскидистых вётел.
«Как же это я задремал?» – подумал Михаил и, легко вскочив, с разбегу бросился в реку.
Вода была тёплой, чистой, прозрачной. Когда Иванов становился на дно, то ясно различал пальцы своих ног. Освежившись, Михаил нырял, кувыркался, пенил воду. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такой лёгкости, как сейчас. Намылившись, он снова бросался в реку, рвался против течения, совсем не чувствуя усталости. Увидев знакомый ещё с детства крутой выступ берега, не обращая внимания на грязь и осыпающуюся глину, вскарабкался на него, выпрямился во весь рост и, вздохнув всей грудью, закричал:
– Ого-о-г-о-о!
Не дожидаясь пока эхо отзовётся в лугах, бросился вниз головой, в воду, замирая от радости и полноты наливавшей всё тело силы.
Солнце опустилось ещё ниже, стало багрово-золотистым и, словно отяжелев, застряло между толстыми стволами старых вётел.
Возвращаясь к дому, Михаил шёл медленно, в развалку. Подолгу останавливаясь почти у каждой грядки, думал: «материна работа». С каким-то непонятным интересом и даже удивлением, пристально осматривая сочные, точно специально надутые воздухом стрелки лука, ажурные, подёрнутые желтоватым налётом соцветия укропа, ядовито зелёные стебли моркови, рукою трогал холодные, величиной с кулак головки капусты, удивлялся аккуратно прополотым рядкам картофеля и опять думал: «мать постаралась». Минуя заброшенный и заросший лопухами и крапивой колодец, вспомнил, как отец рыл его, хлопотал, устанавливал сруб, постоянно беспокоился, чтобы Димка не влез в него. Отец даже соорудил над срубом плотную крышку и запирал её висячим замком. Недалеко от колодца он посадил куст смородины, а дальше, вдоль межи, два ряда яблонь и чернослив. Яблони и черносливы привились хорошо, выросли, а куст смородины почему-то засох. Чернели одни прутья с растрёпанным прошлогодним гнездом. «Эх, отец, отец!» – вздохнул Иванов и зашагал быстрее.
На углу ветхого, с облупившейся глиной во всю глухую стену коровника росла бузина. Когда Михаил уходил в армию, бузина едва поднималась над покосившимся, высоким плетнём. Сейчас она разрослась, как бы распушилась ветвями и листвою, и совсем закрыла плетень. Не доходя до куста на огороде соседей Дехтярёвых, Михаил увидел Веру. Она стояла в борозде, наклонившись над грядкой и осторожно раздвигала руками огуречную плеть. Точно боясь, что Вера вдруг заметит его и уйдёт, Михаил на цыпочках, путаясь в траве, подошёл к плетню, закрылся веткой бузины, сказал:
–Здравствуй, Вера!
Девушка вздрогнула.
– Ой… кто тут?..
Михаил помедлил, опустил ветку и, выпрямившись во весь рост, спокойно сказал:
– Это я. Узнаёшь?
– Ой… – ещё раз вскрикнула Вера. Разжав пальцы, она выпустила из рук передник. Огурцы застучали по плотной листве, укрывавшей грядку.
– С приездом, Миша, – наконец ответила она. И тут же, торопливо собирая огурцы, спросила: – Надолго приехал?
– Насовсем.
– Вот хорошо.
– Да, ничего. А ты как живёшь?
Вера не ответила. Сгорбившись, словно ей вдруг стало холодно, она выбралась из борозды на дорожку и, не сказав ни слова, побежала к дому. Михаил долго смотрел ей вслед, а когда Вера скрылась за сараем, подумал: «Чего это она?..» И, досадуя на себя, горько усмехнулся.
3.
Вернувшись с реки, Михаил увидел в горнице дальнего родственника – старика Захара Филипповича Дятлова. Он сидел на диване и, склонив голову, казалось, дремал. Заслышав шаги, Дятлов выпрямился, поправил густую бороду и, сияя доброй улыбкой, спросил:
– Явился?
– Так точно, явился, Захар Филиппович.
– Молодец, молодец!
– Как здоровье, дедушка?
– Не жалуюсь. Сердишко пока стучит. А раз стучит – надо жить. Помирать – кому охота? На своём веку многое видел, а всё же хочется и дальше знать, что, стало быть, дальше будет, до самого конца… Ванька, старший, вон куда залез, директорствует и всё к себе зовёт, а мне и тут неплохо. Хорошо, можно сказать, было бы, да внуки мешают. Федька – мотоциклу завёл, под окнами гремит, а Семён радио купил. Как вечер, придёт с поля и давай крутить. Шум, трескотня, от песни да музыки окна лопаются. «Я, говорит, по заявкам песни слушаю». Старуха привыкла, а я уши ватой затыкаю. А так ничего, слава богу. Далече служил?
– Далеко, Захар Филиппович. У самого моря.
– Не видел, не знаю, что за штука такая это море. Наверно, одна вода.
Иванов рассмеялся и стал рассказывать старику про море, но чьи-то твёрдые, упругие пальцы сжали его лицо, прикрыв глаза.
– Буравлёв! – сказал Иванов.
– Как ты узнал? Нет, скажи, как ты узнал?
– По запаху. Руки-то керосином пахнут. Ты ведь, помнится, механик?
– Он самый. Бывший десятиклассник, ныне хлебороб, механизатор, запасной первой очереди и твой старый недруг Яков Буравлёв.
– Ты всё такой же?
– Нет, скажи, хорош титул?
– Прямо, как у феодала. Небось, уж и женат?
Буравлёв подумал, закурил и, не глядя в глаза Иванова, ответил:
– Не вышло.
– С Валей?
– Да. Уехала в заданном направлении. Она была достойна любви, но он не был достоин её. Так, кажется, сказал Гейне. Короче – Валя вышла замуж.
– За кого?
– За человека, умеющего легко жить… точнее – примазываться к нашей жизни.
«Значит, не была достойна…» – хотел было сказать Иванов, но в двери показался сосед, степенный Василий Ксенофонтович Дехтярёв с женой, пожилой, но ещё сохранившей прежнюю красоту, женщиной. Едва успел Иванов поздороваться с ними, как пришёл соклассник, бригадир полеводческой бригады, Иван Семичастнов, немного позже явились тётки по матери, обе ещё молодые, подвижные и разговорчивые и такие же, как и Лукерья Емельяновна, остроносые, кареглазые, в шёлковых цветастых платьях.
Семичастнов, низенький, вертлявый, заискивающе поглядывая на Михаила, улыбался уголками губ, твердил:
– Вовремя ты приехал, Мишка, вовремя. Нам, брат, во как, – он ладонью будто резал свою тонкую шею, – руководящие кадры, во как нужны…
Ну какой из меня руководитель? – пробовал возражать Иванов.
– Брось, Мишака, мне виднее, – самоуверенно продолжал Семичастнов, – мы с председателем колхоза живо этот вопрос провернём. Молчи, молчи! Хочешь третью бригаду?
– Да ничего я не хочу.
– Понимаю. На район ориентир держишь. Понимаю. Тоже неплохо. Там тоже ценные работники требуются.
Подошёл Буравлёв, посмотрел сбоку прищуренными глазами на Семичастнова, сказал:
– Ты, руководящая кадра, чего пристал к человеку?
– То есть как? – возмутился Семичастнов. – Ты, товарищ Буравлёв, брось это самое…
– Это самое, это самое, – передразнил Буравлёв. – Хватит. Дай человеку с дороги опомниться…
Как-то незаметно подошла Лукерья Емельяновна, охватила руками всех троих и тихо, словно ей не хватало воздуха, предложила:
– Миша, Яша, Ваня – давайте садиться. Потом о деле поговорите…
Иванов и Семичастный охотно приняли её предложение, а Буравлёв, по-прежнему хмурясь, продолжал:
– Кадра! Скажи на милость, какой начальник объявился…
– Садись, Яша, садись, – увлекая его к столу, повторяла Лукерья Емельяновна.
Но Буравлёв никак не унимался, всё так же твердил:
– Знаем мы таких руководителей.
– Садись, Яша, садись…
4.
За столом, выпив по первой, разговорились все сразу. Семичастный стал рассказывать, как он «отбрил» бригадира тракторной бригады за некачественную культивацию паров и ещё за что-то, но за что именно, Иванов не расслышал. Рядом с ним сидевший Яков Буравлёв толкнул его в бок, сказал:
– Я, брат Миша, как летучий голландец, со своей походной мастерской по полям мотаюсь. По совести сказать, даже пображничать некогда.
Видя, как Буравлёв наливал в стакан водку, Иванов хотел было возразить ему, но молчаливый сосед Дехтярёв спросил его:
– Вы, значит, Михаил Павлович, в младших офицерах состоите?
– Нет, пока только сержант
– Угу… закивал головой Дехтярёв и, воткнув вилку в кусочек розово-бледной ветчины, добавил: – С горчицей она в самый раз.
Захмелевший Захар Филиппович шевелил губами и, наваливаясь грудью на стол, силился что-то сказать Иванову, но затем, безнадежно взмахивая рукой, шептал:
– Море – одна вода и более ничего…
Появился Димка с баянистом – щуплым, как и он, подростком, и всем, в особенности Иванову, не верилось, что он может играть. Но вот, усевшись на табурет, баянист, откинув голову и прищурив глаза, растянул меха – и горница наполнилась весёлыми звуками родной и близкой мелодии. Яков Буравлёв щёлкнул пальцами, прижался к плечу Иванова, шепнул:
– Всё на свете криво, Миша, кажется, так сказал Шекспир?
– А ты выправляй.
– Пытаюсь и…
Не договорив, Буравлёв выскочил из-за стола, легко прошёлся по кругу, остановился, стукнул каблуками, замер, и затем запел:
Пойду плясать,
Дайте кругу –
Десятину ярового.
Десятину лугу.
И вновь, словно подхваченный вихрем, полетел, едва касаясь носками пола.
Не выдержав, соскочила со своего места полнеющая жена Дехтярёва, взмахнула концом вязаной косынки и поплыла вслед за Буравлёвым, приговаривая:
Ах, чей это дом,
Занавески кругом?
Через год иль два
В этом доме буду я!
Лукерье Емельяновне тоже хотелось показать свою прежнюю, давно забытую девичью хватку. Сколько лет её каблуки не выбивали мелкую дробь, не взлетали, как лёгкие, скорые птицы, над этим дощатым полом, над луговой травушкой! Она как бы вновь ожила, вернулась к свету, и на душе у неё было особенно радостно и тепло. И весь вечер, ухаживая за гостями и поминутно отлучаясь на кухню, она почти ни с кем не разговаривала, ничего не пила, не ела, а её взгляд всё время, помимо её воли, задерживался на сыне. Миша был и прежний и какой-то иной. Ей казалось, что и говорит он по-иному, чуть-чуть надтреснутым баском, и смеётся сдержанно, и даже сидит не как прежний школьник, горбясь над столом, а прямо, гордо. И всё это вызывало у Лукерьи Емельяновны чувство глубокого удовлетворения, гордости и материнской радости.
Безлунная ночь подступила незаметно. Небо лишь наполовину было украшено звёздами, с огородов тянуло лёгким ночным холодком. Выйдя на крыльцо, Лукерья Емельяновна сняла с гвоздика пустое ведро, спустилась со ступенек и, заметив, как тёмная тень метнулась от окна к воротам, вздрогнула.
– Кто тут? – испуганно спросила она.
– Это я, тётя Луша, не бойтесь.
И сразу у Лукерьи Емельяновны отлегло от сердца: по голосу она узнала Веру Дехтярёву.
– Что ж ты стоишь, хоронишься? А ну-ка, иди сюда, иди, иди…
– Неудобно, тётя Луша… у вас гости… Миша приехал…
– Вот и хорошо…
– Боязно…
– А чего тебе бояться?
Вера не успела ответить. На крыльце появился Семичастнов. Перевалившись через перила, он сплюнул, затем, чиркнув спичкой и выпрямляясь, сказал:
– Нам бояться нечего… в Обручевке – мы хозяева.
Неуверенно ступая и покачиваясь, Семичастный спустился с крыльца, спросил:
– Вера?
–Ну Вера. Я. Чего тебе надо?
– Загордилась?
– А хотя бы и загордилась.
– Па-а-ни-маю…
– И понимать нечего.
– Понимаю, – вновь повторил Семичастнов. – Старый дружок возвернулся, а ты уже и растаяла.
– Ваня, Ваня! – засуетилась Лукерья Емельяновна. – Что ты говоришь?
Семичастнов помолчал, тяжело вздохнул и ответил:
– Кому Ваня, а кому Иван Петрович…
И, выругавшись, поплёлся к воротам. Долго возился, гремя щеколдой. Открыв калитку, остановился и угрожающе прохрипел:
– Ладно, Верка… попомни…
Семичастнов ещё говорил что-то, но что именно – трудно было разобрать: открыли окно, и из горницы вместе с задорной мелодией понеслось по двору:
Раскачаю я берёзу
Раскачаю, повалю,
Я последний вечерочек
С тобой, милый, говорю.
Небо, рясно усеянное звёздами, вскоре совсем очистилось от туч. Лукерья Емельяновна и Вера, ни слова не говоря друг другу, долго ещё стояли на крыльце, охваченные прохладой летней ночи.
5.
Прошла неделя с того дня, как Михаил Иванов вернулся домой. Лукерья Емельяновна видела, что сын томится без дела, скучает, из клуба приходил рано, спать не ложился и до самого рассвета читал. А разговор Михаила с Никитой Долгих даже напугал Лукерью Емельяновну. Никита явился в полдень, чуть выпивши, и, едва переступив порог горницы, весело поздравил:
– С хозяином тебя, кума!
Лукерья Емельяновна не сразу поняла, о чём говорил Никита. А он, усевшись на диван, расстегнул ворот рубашки, пояснил:
– Мужик в доме – завсегда хозяин.
– Спасибо, – ответила Лукерья Емельяновна.
Но Никита уже не слушал её. Он тряс Михаилу руку, щуря маслянисто сверкавшие глазки, говорил:
– Знаю, всё знаю.
– Ты о чём, дядя Никита? – пожимая плечами, спросил Михаил.
– Знаю, всё знаю, – вновь повторил Никита. – Меня не обойдёшь, не объедешь… – Никита замотал головою, упираясь руками в сиденье дивана, сгорбился. – Я ещё вчера вечером узнал, какую тебе должность приготовили, сам председатель колхоза говорил…
– Погоди, погоди…
Нет, ты погоди… не перебивай… Вчера я всё в точности узнал: быть тебе в начальниках.
– А если я не желаю, не хочу, не смогу.
– Брось, Михайло, брось. Все так говорят, да только говорят.
– Ну это мы ещё посмотрим.
Никита выпрямился, удивлённо спросил:
– Неужто лучше надумал? Неужто думаешь оставить Обручевку?
– Могу, могу и оставить, – ответил Михаил.
Лукерья Емельяновна было уронила чугунок с картошкой. Никита усмехнулся.
– Молодец, Михайло, крой их всеми козырями.
Он ушёл так же неожиданно, как и появился.
Михаил проводил его за ворота, а вернувшись в горницу, заметил:
– Чудак…
На десятый день он с утра ушёл из дома. До позднего вечера Лукерья Емельяновна просидела у окна, ждала сына. Взошла полная, словно обновлённая луна. На дворе было тихо, и эта тишина томила Лукерью Емельяновну, томили и смутные догадки и предчувствия. А когда кто-то метнулся мимо окна, застучал по ступенькам крыльца каблуками, она вздрогнула и встала.
– Кто там? – спросила Лукерья Емельяновна.
– Это я, тетя Луша… я, Вера…
Лукерья Емельяновна зажгла лампу. Вера стояла у порога, не решаясь пройти дальше. Вид у неё был испуганный. Она мяла в руках концы накинутой на плечи косынки.
– Никого нет? – наконец сказала она.
– И Миши нет, – пояснила Лукерья Емельяновна. – Проходи, Верочка… Давай вместе сумерничать…
Так и просидели они у окна до рассвета. А когда на следующий день сын явился, Лукерья Емельяновна чуть не заплакала, увидев его на пороге горницы.
– Всё в порядке, мама, отправляюсь…
У Лукерьи Емельяновны задрожали ноги, и едва слышным голосом она спросила:
– Куда?
– Как куда? В бригаду. Трактор дают! – И, снимая гимнастёрку, добавил: – Для танкиста – дело привычное, мама…
А тебя Вера Дехтярёва спрашивала…
– Вера?
– Мы всю ночь тебя ждали…
Михаил покраснел. Быстро открыв чемодан, он порылся на дне его, достал маленький флакончик духов, незаметно сунул его в брючный карман, сказал:
– Эх, и растяпа я…
И выбежал во двор.
В полдень Михаил собрался. Мать проводила его за ворота, и пока он, пересекая улицу, выходил на дорогу, ведущую в поле. Лукерья Емельяновна всё ждала, что сын оглянется, помашет ей рукою. Не дождавшись, она не обиделась на сына: его отец, уходя на работу, никогда не оглядывался.
***