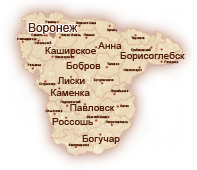Раздумья о сокровенном (Сидельников Иван Васильевич)
Сидельников И. В. Раздумья о сокровенном // Подъём. – 1974. – № 3. – С. 94–99. – (Бессмертный подвиг народа)
Последнее напутствие
Тот далёкий безветренно душный и безоблачный день на редкость знойного лета сорок второго мне не забыть вовек.
Накануне, поздним вечером пронёсся шквалистый грозовой дождь, заставший меня на полпути между Давыдовкой и Средним Икорцем. Теперь же, в полдень, над созревшими, но из-за близости фронта не убираемыми хлебами струилось зыбкое марево, причудливо меняющее очертания сиротливо притихших полей.
Я возвращался в полк, ведя в поводу оседланного коня, который в отличие от меня, хорошо отдохнул после ночного сорокавёрстного броска. Рядом со мной, обходя лужицы, устало шагала моя мать. Разморенная жарой, она часто останавливалась и вздыхала: радость короткой встречи сменилась горечью расставания.
– Никудышный ходок из меня, – виновато улыбнулась она на втором или третьем «привале». – А когда-то я в Киев пешком ходила, в Печерскую лавру.
Я перехватил её тоскующий взгляд, устремлённый вдаль, на урожайный цвет слегка всхолмленной степи: именно туда извилистый просёлок и уведёт меня от неё…
И я подумал: наверное, было бы благоразумнее совсем не приезжать, чтоб не расстраивать её. Но я тут же отогнал эту мысль: а если такой возможности у меня больше не будет?!.
Удивительно это и неизъяснимо: мать словно отгадала мои мысли.
– Жизнь – она, ведь, сынок, так устроена: разлука сулит встречу… да только не каждая. В голодовку проводила я на Кубань старшую дочь, Катю, с двумя малолетками, да и поныне всё жду их и жду… Катю-то, сказывали, тиф свалил, а внучатки, может, и целы, да только навсегда затерялись… И живут теперь, сердяги, не зная своего роду-племени…
Я у матери младший из восьмерых её детей, живых и мёртвых, последышек, как она называла меня. И хотя мне без малого двадцать четыре, и я уже сам стал отцом, она до сих пор сохранила ко мне особые чувства. Потому, я думаю, что мне меньше всего досталось отцовской ласки: был трёхлетним несмышлёнышем, когда отец умер. Он скончался в полном сознании на глазах у родных и друзей, созванных по его просьбе. Прощался со всеми спокойно, даже с юморком, будто отъезжал ненадолго. А я, как мне потом рассказывали, сидел на его впалой груди и увлечённо теребил его курчавую бороду, слегка тронутую сединой. Многие плакали, глядя на меня.
…Шагали мы не быстро, – расторопный конь на ходу успевал пощипывать сочный придорожный пырей.
Слева, за изволоком, по гребню которого пролегала замершая железная дорога на Лиски, глухо громыхала артиллерия: менее чем в десяти километрах, на лысых взгорьях Придонья, уже почти две недели находился враг. В боеприпасах недостатка он не испытывает и под постоянным обстрелом держит не только ближние, но и дальние тылы наших передовых частей. Даже на пустынных полях там и тут чернеют свежие воронки тяжёлых снарядов. Село же, в особенности его пристанционную часть, фашисты подвергают яростным огневым налётам: за те несколько часов, что я провёл дома, нам дважды пришлось опускаться в щель, вырытую под стеной хаты.
Беспокойно поглядывая на гребень изволока, мать заговорила о том, что волновало её сейчас более всего на свете:
– Тебе шёл всего десятый денёчек, когда война вот так же пожаловала в наши края. Белые за рекой, красные – на Воронежской горе, а мы аккурат между ними. Была уже ранняя зима, а я с тобой, почитай, неделю отсиживалась в окопе… А тут ещё казаки подняли отца с постели и увели в чём был. Он в комбеде состоял, так они за это двое суток на нём злобу свою вымещали… С той поры он и зачах… А вспомнить другое… В год смерти отца, – а это был голодный год, – вон на том склоне, у Первого лога, помню, мы подсолнухи пололи. Жара была такой же вот несусветной, а ты – кожа да кости, – лежишь под телегой и тихоньким голосочком всё есть просишь. Суну, бывало, тебе лепёшку из колючки с лебедой, а ты и ей рад-радёхонек… До сих пор диву даюсь: как ты только выжил?.. А когда в школу пошёл… Морозы по утрам, снежок перепадает, а ты босой вприпрыжку бегаешь… Это уж потом брат Пётр сплёл тебе верёвочные лапти… Нет, что ни говори, а сызмальства ты у меня какой-то очень уж невезучий…
Мама замолчала, видимо, не решаясь до конца высказать свои нерадостные раздумья.
– И вот что, сынок, не выходит у меня из головы… Под орудийную пальбу ты на белый свет появился, а теперь, когда твёрдо стал на ноги…
– Не надо, мама, об этом, – попросил я.
Я ещё не был в боях, – наша 100-я дивизия только что прибыла на Воронежский фронт, в район Давыдовки, откуда комиссар полка Грозов великодушно отпустил меня, политрука второй стрелковой, на сутки, и даже распорядился выделить для этого боевого коня. У меня нет ещё представления о том, что испытываешь, когда пули высвистывают над головой и падает только что бежавший рядом товарищ. Всё это у меня впереди, но тоном бывалого солдата, прошедшего сквозь огонь и воду, я пытаюсь рассеять недобрые предчувствия матери:
– На войне ведь не всех убивает…
Она грустно усмехнулась, и я понял: не очень это весомый довод для сердца, которое непрестанно тревожится ещё за двух сыновей, да за внука и зятя, воюющих где-то в дальней стороне…
Некоторое время мы шли молча, потом я сказал, что ей пора возвращаться. Губы у неё вдруг задёргались, и она, не желая показать мне своей слабости, отвернулась.
А потом дрогнувшим голосом сказала:
– Ты малый горячий… Так вот, будь осторожней, с умом воюй… В кустах не отсиживайся, но и на рожон не лезь. Помни, сынок: бережёного и сам бог бережёт…
– Буду стараться, – пообещал я. И добавил: – Если наши начнут отходить – в селе не оставайся!..
– От судьбы, сынок, никуда не уйдешь. И под печкой не схоронишься.
Я понял: переубедить её не сумею, и замолк, полагая, что в трудную минуту она поступит как надо.
На прощание мать прильнула ко мне, тихо всхлипывая, и мы долго стояли так, не в силах оторваться друг от друга. Потом, наклонив мою голову, она поцеловала меня в лоб и, хотя давно уже не верила в бога, страстным полушёпотом произнесла:
– Господи, спаси и сохрани!
Я вскочил в седло, и конь, будто он только этого и ждал, с места пошёл галопом, разбрасывая ошмётки грязи.
Когда-то, в детстве, каждый весенний день скакал я вот так же по этой дороге в ночное. Только тогда вместо седла подо мной был свёрнутый отцовский халат из грубого сукна, сотканного мамой. И конь был не такой прыткий – отжившая свой век старая кляча, которая почему-то странно заносила в сторону заднюю кривую ногу. И не командирский планшет висел тогда у меня через плечо, а холщовая сумка. В ней краюха хлеба, несколько варёных картофелин и заткнутая кукурузным початком бутылка молока…
Мог ли я думать тогда, что эта ничем не примечательная дорога моего детства станет, выражаясь военным языком, рокадной, а лично для меня – одной из многих ухабистых дорог войны, по которым мне предстояло пройти?..
Перед спуском во Второй лог я придержал коня и обернулся.
Мать стояла на том же месте, где мы расстались, и из-под ладони глядела мне вслед. Я помахал ей, чтоб она возвращалась, но мама не шевелилась. Не изменила она своей позы даже тогда, когда на изволоке, в каком-нибудь километре от неё, один за другим разорвались пять или шесть тяжёлых снарядов…
А конь подо мной при первом же разрыве так и присел. Тревожно всхрапывая, будто почуяв волка, он норовил пуститься вскачь и песчаную ложбину, промытую вешними водами, пересекал неуклюже, бочком…
На взлобке, поросшем мелкой полынью, натянув поводья, я в последний раз оглянулся и вновь увидел скорбную фигуру, теперь уже слегка искажённую струящимся маревом, а может, и слезой, застлавшей глаза…
И мне вдруг подумалось: с этой минуты каждый орудийный выстрел и каждую пулемётную очередь, особенно хорошо слышимые на предутренней заре, мама теперь будет воспринимать – со зримой реальностью! – как прямую смертельную угрозу мне, её меньшому…
Пришла мне и другая мысль.
Всей душой, каждой клеточкой изношенного сердца своего мама, конечно же, не хочет – и можно ль упрекнуть её за это? – чтобы я уходил туда, где льётся кровь и свирепствует смерть, – не для того же она меня на свет породила! Но если бы я сейчас повернул встревоженного коня и, изменив самому себе и своему долгу, попросил её как-нибудь укрыть меня до лучших времён, она бы – в этом я нисколько не сомневаюсь! – непременно отвернулась от меня, как недостойного её святой материнской любви.
И ещё я знаю: мама будет ждать меня с победой всегда – светлым днём и тёмной ночью, в ясную погоду и в сумрачное ненастье. Даже если недобрые предчувствия её не обманут, – до скончания дней своих будет мысленно глядеть она на эту дорогу: не появлюсь ли я на ней?..
Мама, мама, чем же измерить глубину твоих страданий и какой ценой определить благородство и чистоту твоей души! Чем и как я должен успокоить их, твои страдания?..
Пока ехал по безлюдным полям с неубранными хлебами, в душе моей зрело единственно правильное и предельно простое решение: беспощадно мстить тем, кто пришёл на мою землю и угрожает огнём моему скромному дому, а моей матери – страшными муками и смертью. Только она, жестокая и священная месть поработителям, должна отныне стать главным смыслом моей жизни. И что бы ни случилось со мной, какой бы тяжкой ни стала моя участь, я буду благодарен солдатской судьбе за то, что перед первым боем моим она устроила мне эту незабываемую встречу.
И последнюю, как оказалось…
В студёном феврале, когда в составе войск Воронежского фронта я воевал уже на украинской земле, западнее Харькова, матери моей не стало. Она прожила неполные шестьдесят шесть, и мне кажется, нет, в этом я твёрдо убеждён: расставанье со мной под разрывы снарядов на родных полях ускорило её кончину.
Тем, кто под самый корень сокрушил фашизм, – прославленным и безвестным героям – народ наш, и не только он один, с благодарностью и любовью воздвиг величественные памятники. На огромном пространстве от стен Воронежа до предместий Праги их немало высится и над прахом моих боевых друзей и товарищей. И когда я размышляю о всём том, что они свершили и какой заплатили за это ценой, – мне всякий раз вспоминается знойный июльский полдень сорок второго года и одинокая фигура моей матери среди спелых хлебов. Теперь, спустя тридцать с лишним лет, она представляется уже как обобщённый образ Солдатской Матери, провожающей сыновей в сражение за всё то необъятно великое и прекрасное, что понимаем мы под словом Родина…
Плещут холодные волны…
Не всякому случается стать очевидцем рождения моря, даже такого, как наше, Воронежское: в тридцать пять километров длиной, в два – шириной, при средней глубине в полтора человеческих роста. Потому-то событие это для нас, воронежцев, на чьей земле Пётр Первый положил начало русскому военному морскому флоту, стало поистине волнующим: его нетерпеливо ждали, о нём много говорили, много спорили, разделившись на два непримиримых «лагеря» – оптимистов и скептиков.
Наконец в один из последних дней марта 1972 года, на возведённой у села Шилово плотине через пойму реки Воронеж, в её предустье, были торжественно опущены затворные щиты. Так как зима была бесснежной, то все, даже самые заядлые оптимисты, не на шутку тревожились: родится ль море?..
Но все страхи и опасения позади – море родилось.
Я стою на его берегу, пока что неуютном и замусоренном. У ног моих плещутся волны почти что и вправду морские – с белыми барашками и радужным отсветом брызг.
На противоположной стороне – индустриальный пейзаж Левобережья, а за спиной моей – Чижовское взгорье южной окраины города, с кривыми улочками и переулками, по-деревенски обрамлёнными садами и огородами.
Я гляжу на рукотворное чудо, а в сердце моё вдруг хлынула тихая и, кажется, необоримая грусть. Места, ставшие «морским» дном, увиделись мне такими, какими они были 12 августа сорок второго. С винтовкой наперевес и криком «ура» я бежал как раз вот сюда, где сейчас стою, оттуда, – из дыры, проделанной в фундаменте полуразрушенного домика, – бил, обрывая бег товарищей, неподавленный артиллерией крупнокалиберный пулемёт…
Вспомнилось, как в каких-нибудь ста метрах отсюда, когда я приостановился, чтоб оглянуть цепь атакующих, по которой ударили ожившие пушки и миномёты, пуля обожгла мне левую голень. Не столько от боли, – в азарте она не очень почувствовалась, – сколько от злой обиды я повалился на картофельное поле, заросшее густой лебедой. Осмотревшись, прижался щекой к прикладу винтовки и с поразительным для самого себя хладнокровием навёл мушку на амбразуру. После двух или трёх выстрелов пулемёт захлебнулся, а я, отмщённо ликуя, тотчас же вскочил и, припадая на левую ногу, снова устремился вперёд…
…Медленным, тяжёлым шагом бреду я сейчас вдоль берега. Мутные волны уже успели обнажить многое из того, что долгие годы было покрыто супесью: ржавый стабилизатор тяжёлой мины, куски колючей проволоки, полуистлевшая коробка противогаза, большие и малые осколки. Сколько их тут, этих некогда смертоносных кусочков рваного металла!..
Вдруг сердце надсадно защемило: при откатах волны из песка проглянула матовая округлость черепа с дыркой в правом надбровье…
Тихо шепчутся волны, шепчутся о чём-то своём, а мне кажется, будто они натужно вздыхают и по-матерински неутешно скорбят…
Во взбудораженной памяти ярко, будто мы расстались вчера, а не три десятилетия назад, замелькали лица боевых друзей – суровые, решительные – такими они были на ротном митинге накануне боя, когда мы клялись драться до последнего патрона, до последнего удара сердца…
По странному стечению обстоятельств во второй роте 460-го стрелкового полка командирами взводов были два тёзки-однофамильца: белобрысый младший лейтенант Михаил Пономарёв, архангельский комсомолец, который за два дня до атаки в ночной разведке кинжалом убил своего «первого» фашиста, и двадцативосьмилетний веснущатый крепыш лейтенант Михаил Пономарёв – сельский учитель, тоже откуда-то из-под Архангельска. Оба они погибли здесь, на окраинных улочках Чижовки, но могил их я не знаю: когда покидал поле боя, они ещё были живы.
Как знать, может, волны размыли могилу кого-то из них?
Или это останки высокого, подтянутого, несколько сутулого комиссара первого батальона старшего политрука Лапина, который ходил в атаку с младшим Пономарёвым и тоже сражён вражеской пулей?
А может, прах рассудительного сержанта Варламова, не оставившего рубежа даже после второго ранения, или кого-то другого из бойцов и командиров второй стрелковой, что сложили головы именно в этих местах?..
В широко известной песне есть такие слова: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят…» Потери второй роты были ещё страшней: в атаку нас поднялось около ста сорока человек, а из боя, на шестой его день, вышли невредимыми всего семеро…
Убитых чаще всего хоронили там же, где их настигала смерть: на огородиках и в садах, на пойменном лугу или прямо у берега реки. И – чего уж тут греха таить! – не всегда ставили хоть какой-нибудь памятный знак. В суматохе боя некогда было думать о том, что эти скорбные места станут потом бесконечно дороги каждому, в ком бьётся сердце честного человека.
В марте – апреле сорок третьего, в первую же весну освобождённого города, который фашисты с сатанинским неистовством жгли и разрушали, воронежцы благоговейно свезли останки своих защитников в одно место, на взгорье, перед спуском к дамбе. На братской могиле был воздвигнут Монумент Славы. Но свезли туда не всех: многие могилы к тому времени уже трудно было сыскать, и теперь они оказались под водой.
Вроде вот этой, которую обнажили волны…
Так кто же ты?
Мне кажется, я почти уверен, что мы с тобой хорошо знали друг друга, хлебали один и тот же не всегда наваристый, но неизменно удивительно вкусный солдатский суп и курили махорку из одного кисета. Но если даже этого и не было, ты для меня не чужой: солдат роднит, делает братьями не только общая могила…
От грустных размышлений меня отвлёк шум мотора – по морю плыл белый прогулочный катер. Он вёз к плотине очередную группу экскурсантов. По водному простору разнеслась весёлая музыка.
Во мне вдруг поднялась глухая ярость, и захотелось во весь голос крикнуть: «Эй, на катере! Заглушите мотор и выключите музыку! Не нарушайте вечного покоя тех, кто не знал его при жизни!..»
Но я не крикнул. На память пришли мудрые слова поэта:
Они затем и шли на смерть, чтоб видеть
Счастливый блеск в глазах живых.
Не бойтесь же их радостью обидеть,
А бойтесь грустью опечалить их.
…Плещут, набегая одна на другую, беспокойные волны. Но однообразный шум их кажется мне теперь величавым гимном отваге и доблести однополчан, что до конца исполнили свой солдатский долг. <…>