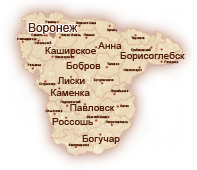Возвращаются люди (Бубнова Ольга Владимировна)
Бубнова О. В. Возвращаются люди. Воронеж, 1982. Ч. 2. С. 113–116.
<…>
 |
Каждый раз Лена торопилась домой, чтобы рассказать новое, что узнала в школе.
– Бой объявили, – с порога сообщала она, бросая на кровать баул, который мама всё-таки наконец купила.
– Чему? – всегда настороженно спрашивала мама. К тому, что происходило в школе, она и папа относились по-разному, иногда сдержанно вздыхали, иногда же проявляли живой интерес. Нравилось им, что учащиеся и учителя объявили бой замкнутости, зубрёжке, что насаждался дух сознательного отношения к знаниям, дух коллективизма, товарищества, активного участия в школьной жизни.
– Вот только история, – вздыхал папа. – Как же без неё?
Лене же нравилось всё, положительно всё в школе, даже то, что неожиданно отменили девятилетки и ввели семилетнее обучение.
– Ну что же вот вы из семилетки выйдете, ни то ни сё, – волновалась мама.
– Стране нужны специалисты, пока хотя бы со средним образованием. Индустриализация, – объясняла Лена, но где-то в глубине души в техникум ей всё-таки не хотелось.
Школьных учителей Лена любила решительно всех, в каждом из них было что-то своё, нужное ей. Учитель географии Михаил Иванович, в общем-то чудак страшный, да ещё прозванный за толщину Самоваром, так владел указкой, что под ней как под волшебной палочкой оживали города, страны, моря. После каждого его урока дали, всегда манившие Лену, звали её с ещё большей силой. Стремительная немочка, призёрка по конькам, удивительным образом умела сдерживать свой темперамент, когда чувствовала, что ученики не в силах следить за её словами, говорила же она всегда только по-немецки, и это было очень интересно. Химик, маленький и невзрачный на вид, знал химию как бог. Естественница Полина Григорьевна сделала свой предмет одним из самых любимых. Колбочки, пробирки, таблицы в её руках объясняли ученикам удивительные вещи. Никудышным считали только учителя рисования Сергея Илларионовича Свечкина, но и в нём для Лены неожиданно обнаружилось такое, что заставило его полюбить. Урок свой он всегда начинал с одной и той же шутки:
– Почему дурак, а не дурыба?
Ученики смеялись не над шуткой, а над ним. Не обращая на это внимания, Свечкин ставил на стол какой-нибудь прямоугольный предмет, говорил «рисуйте» и засыпал.
Однажды Сергей Илларионович, значительно посматривая по сторонам, достал из потёртой сумки глиняный кувшин с отбитой ручкой. На этот раз учитель рисования не спал, ходил между партами, просматривая тетради.
Возле Лены он остановился, толстым пальцем со следами краски на ногте повёл по рисунку:
– Тень надо левее и погуще.
Отошёл, вернулся, посмотрел рисунок на расстоянии:
– Лошадей любишь?
– Люблю, – вспыхнула Люба.
На следующем уроке Свечкин молча поставил на стол прямоугольный предмет, потом подошёл к Лене, вынул из кармана широких, как у клоуна, помятых брюк бронзовую фигурку лошади.
– Рисуй.
Лена нарисовала.
– Можешь, – словно отвечая на свои мысли, кивнул головой учитель. – Только бронзу не сумела передать.
– Да ведь без красок, – вспыхнула Лена.
– А вот так нужно, чтобы без красок чувствовалось, вот в чём штука. Поняла?
– Нет, – прошептала Лена.
– Вот тебе и нет. Я цыганку нынче видел. Слушай внимательно, нужное буду говорить. Идёт она по Дворянской, юбка на ней пёстрая, шаль расписная, ботинки высокие на пуговицах, всё как положено. Оглянулся на минуту, посмотрел опять, а её уже и нету, как сквозь землю провалилась, а свернуть-то и негде было. Женщина идёт, шаль на ней белая, шёлковая, а цыганки нет. Поняла?
– Немного, – не спуская со Свечкина широко открытых глаз, ответила Лена.
– Ничего, потом как следует поймёшь. А сейчас вот на этом своём носу заруби: спрашивать я с тебя не так, как со всех, буду, больше. С человека спросится в жизни не то, что он не смог сделать, а то, что мог, да не захотел. Зарубила?
– Сергей Илларионович, – окончательно смутилась Лена, – вы… вы не надо про дурыбу.
– Здравствуйте, – сделал низкий поклон учитель.
Домой в этот вечер Лена шла возбуждённая, почему-то всё: и небо, и свет, и звёзды – виделось особенно чётко, от этого было и тревожно и радостно на душе.
Неистово любили в группе, да и во всей школе, Льва Григорьевича Галича. Когда он входил в класс и здоровался, все гаркали в ответ так весело и дружно, будто всё это время только и делали, что с нетерпением ждали прихода в класс учителя математики и физики. Даже то, что завуч заикался, вменялось ему в величайшее достоинство. Кое-кто пытался даже подражать любимому учителю, и на тех, кому это удавалось, смотрели с завистью.
– Новость! – прямо с порога начинал урок Галич. – На Днепрострой прибывает партия леса. – В другой раз он сообщал: – В Берлине делают опытные записи электромагнитных волн.
– Как?! – взрывался класс, но Лев Григорьевич шутливо отмахивался: потом, мол, на занятиях кружка, сейчас по плану, он даже и тетрадкой с этим своим планом помахивал, вот он, от него никуда не уйдёшь. Начинался урок по плану, но и это было настолько увлекательно, что даже Борьку один раз задело за живое:
– Эк ведь чёрт!
– Что открытие сделал? – быстро повернулся к нему на каблуках Галич. – А ругаться по этому поводу не следует, чувства свои иначе выразить можно, на это другие слова есть, лучше.
Ответить Льву Григорьевичу меньше, чем на семьдесят пять процентов, считалось позором. Получив как-то по математике сорок процентов, Борька, как всегда дерзко, спросил завуча:
– А зачем её и вообще-то учить?
– Отметку плохую получил, потому и спрашиваешь, сам себе оправдание ищешь? Это хорошо всё-таки, хоть и не до конца, а чувствуешь вину, – покрутил головой тот. – Ломоносов сказал, математику для того учить надо, чтобы ум в порядок приводить. Оставайся сегодня после занятий, я тебе покажу, как это делается.
В перемену Галич потрепал Борьку за ухо.
Так-то, архаровец. Вы думаете, математика – это что? – обратился он к остальным ребятам, как всегда окружившим его. – Поэзия это – вот что. Подождите, настанет время, теоремы стихами писать будут. Будут, а?
И все сейчас же соглашались, что будут обязательно и даже тут же пробовали, но ни у кого ничего не выходило.
<…>
Бубнова О. В. Возвращаются люди. Воронеж, 1982. Ч. 3. С. 222–224.
<…> Лене надо было спешить в госпиталь. На верху горы, там, где только что высились большие дома, развалины были ещё страшнее. Некоторые здания превратились в бесформенную груду, от других остались только коробки со светящимися насквозь проёмами окон, с нависшими лохмотьями крыш. Одна колокольня монастыря всё ещё возвышалась на фоне неба, величественная и словно плывущая в нём.
В госпитале всё складывали, свёртывали: был получен приказ о немедленной эвакуации. Лена поспешила в медицинский институт, где были курсы медсестёр, на которых она училась. Но и в институте сложенным уже лежало в кабинетах оборудование, и тут же горой были свалены чьи-то чемоданы, свёртки, тюки. О курсах никто ничего не знал, эвакуировался институт. Теперь надо было идти в издательство. Там так же, как в институте, кабинеты были завалены чемоданами, тюками, ящиками.
Сотрудники перебегали из комнаты в комнату, суетились в коридорах. Кто-то сказал, что наверху у директора, раздают эвакуационные листки, и Лена пошла туда. Раздавал директор. Он сообщил, что отправление завтра рано утром и что каждый человек имеет право взять с собой не больше одного чемодана. Будут всего две машины.
– Идите и собирайтесь, – закончил директор. – Завтра приходите как можно раньше. Ждать нельзя.
Дома среди мёртвой тишины размеренно тикали, стенные часы, и от этого знакомого, удивительно знакомого, за все годы и теперь ничем не изменившегося звука вдруг чётко выступила перед глазами каждая вещь, даже не вещь, а то, что с ней накрепко было связано: тумбочка, где когда-то после долгого его исчезновения мать нашла маленького ёлочного арапчонка, ломберный стол и остатки папиного письменного прибора на нём, сундук, на котором совсем недавно умер отец, бабушкино зеркало. На мгновенье то, что происходило сейчас в городе, показалось ненастоящим, призрачным. Но это было, было. Лена открыла сундук. Взять самое необходимое…Что же это самое необходимое? Первое, что увидела она, была рукопись отца, – в потёртой папке от скоросшивателя, перевязанная тоненькой бечёвкой, – «Очерки по истории западного гуманизма». Торопливо, словно боясь, что вдруг не успеет, она положила рукопись в чемодан. Потом были какие-то платья, бельё. И вдруг Лена поняла, что держит в руках свёрток из белого полотна. Она знала, что в этом свёртке коса сестры Маши. Нужно было положить его в чемодан так, чтобы мать не заметила. Но она заметила, и прежде чем Лена успела прикоснуться к свёртку, сама взяла его, на минуту застыла в оцепенении, потом опустилась на стул.
– Мама,– дотронулась до её плеча Лена,– мама, надо спешить.
Любовь Алексеевна положила свёрток в чемодан. Теперь она уже ничего не брала, ничем не интересовалась.
Ночью Лена долго не могла уснуть, хотя и было неожиданно тихо. Временами она открывала глаза и видела, что мать сидит на постели прямая и неподвижная, так же как сидела тогда, когда пришла весть о гибели Маши, сидит и смотрит на окно, куда обычно между рамами почтальон бросал институтские письма сестры…
Под утро Лена задремала, а когда проснулась, опять увидела мать. Она по-прежнему сидела на постели. На коленях у неё была коса Маши, длинная, русая, толстая, туго заплетённая.
– Мама! – окликнула Лена.
Та медленно повернула голову.
– Я хочу сказать тебе, – начала она, – что никуда не поеду. Да, да, я хочу сказать тебе, – голос её был каким-то уж очень твёрдым, словно заранее она отбрасывала всякие возражения. – Ты понимаешь, – продолжала Любовь Алексеевна. – Маша может вернуться. Где она будет искать нас?
– Мама...
– Ты езжай, тебе нельзя оставаться, а я останусь.
Только теперь Лена поняла, что мать всё это время не верила в гибель Маши, всё это время ждала или её, или письма, которое должно было появиться и всё изменить.
Но ведь надо было уезжать из горящего города, из города, в который вот-вот мог войти враг. Лена обняла мать
– Мама!
И вдруг замерла, прислушалась: летели бомбардировщики, тяжёлым гулом наполняя небо. Потом начали рваться бомбы. Из окна со звоном выскочило стекло. Любовь Алексеевна судорожно прижала к себе дочь, заслонила её собой и прижимала всё крепче, крепче, до тех пор, пока не перестали рваться бомбы.
– Скорее, скорее, – теперь сама заторопила она.– Пальто надо взять тебе, калоши. Господи, мало ли что?
В издательстве никого не было. Гулко отдавались шаги в безлюдных комнатах, на полу валялись бумаги, которые вдруг оказались ненужными, пустые ящики были выдвинуты из столов, окна с наклеенными на них полосками бумаги распахнуты настежь. Уехали. Лена с матерью вышли во двор, опустились на скамейку. Утреннее небо было голубым, безоблачно-чистым, ажурные метёлки пырея, просвеченные солнцем, казались сделанными из тончайшего прозрачного кружева.
Лена поднялась. Вдвоём они вышли на улицу, ведущую к мосту, и сразу очутились в нескончаемом потоке людей. Громыхали по мостовой повозки, ручные тележки, тачки, опустив головы, покорно шли лошади. Лену охватила какая-то особая тревога, словно предчувствие чего-то. В общей массе трудно было увидеть отдельных людей. Слишком давила она своей бесконечностью, своей стиснутостью воедино, своим страшным молчанием. И только женщину через несколько человек впереди себя с двумя детишками на тачке Лена увидела очень чётко. Она была маленькая, некрасивая, с тёмными волосами, выбившимися из-под белого ситцевого платка. За спиной у неё был мешок. Дети в тачке, мальчик и девочка, совсем ещё маленькие, сидели неподвижно, крепко вцепившись ручонками в её края.
До моста оставалось всего несколько шагов, но нужно было подождать своей очереди для того, чтобы ступить на него. Со стремительной быстротой взгляд Лены выхватил там, под мостом, реку, почти неподвижную, спокойную, и дальше – знакомые с детства зелёные купола вётел вдоль дамбы, остров, и на нём тоже ветла, и белое здание петровского цейхгауза. Потом, Лена никогда после не могла понять, как это произошло, сначала, кажется, пронзительно взвыл пикирующий бомбардировщик, а может быть, почудилось это, но только раздался оглушительный, раскатистый, всё потрясающий собой взрыв. Разорванный посредине мост лежал своей срединой в реке, и всё, что было на нём – лошади, повозки, люди, – копошились в воде. Казалось, бурлила сама река. Мгновение тому назад спокойная, почти неподвижная, она вздымалась теперь, оседала, снова вздымалась. Гибли, отчаянно цепляясь друг за друга, люди, взбрасывали передние ноги лошади, пытались плыть, но тяжёлые повозки тянули их в пучину, и они исчезали в ней, ржанием взывая о помощи. Над поверхностью воды возникла та женщина, которую Лена приметила ранее. <…> Лена закрыла лицо руками: ничем, ничем не могла она помочь тем, кто погибал у неё на глазах! И отрезан был путь к своим.
– Прости меня, дочка, – тихо сказала Любовь Алексеевна.
Лена крепко обняла мать.
<…>