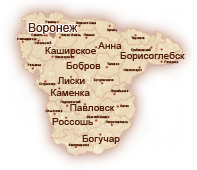Думая о Пушкине (Бунин Иван Алексеевич)
Думая о Пушкине
(Бунин И. А. Думая о Пушкине // Публицистика 1918–1953 годов / И. А. Бунин. – Москва, 1998. – С. 203–210).
«Просьба ответить: 1) каково ваше отношение к Пушкину, 2) прошли ли вы через подражание ему и 3) каково было вообще его воздействие на вас?».
Не от большевиков, не из России, но напечатано по «новому» правописанию. Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у «новой» русской литературы, – можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она – и Пушкин, то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса? Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом – какой характерный вопрос: «каково ваше отношение к Пушкину?» В одном моём рассказе семинарист спрашивает мужика:
Не от большевиков, не из России, но напечатано по «новому» правописанию. Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у «новой» русской литературы, – можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она – и Пушкин, то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса? Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом – какой характерный вопрос: «каково ваше отношение к Пушкину?» В одном моём рассказе семинарист спрашивает мужика:
– Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?
И мужик отвечает:
– Никак они не смеют относиться ко мне.
Вот вроде этого и я мог бы ответить:
– Никак я не смею относиться к нему...
Вопрос этот стал возможен только теперь, после Есениных и Маяковских:
Я обещаю вам Инонию…
Белогвардейца – к стенке!
А почему не атакован Пушкин?
И мужик отвечает:
– Никак они не смеют относиться ко мне.
Вот вроде этого и я мог бы ответить:
– Никак я не смею относиться к нему...
Вопрос этот стал возможен только теперь, после Есениных и Маяковских:
Я обещаю вам Инонию…
Белогвардейца – к стенке!
А почему не атакован Пушкин?
И всё-таки долго сидел, вспоминал, думал. И о Пушкине, и о былой, пушкинской России, и о себе, о своём прошлом...
_________________
Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я, – в самой ранней молодости подражал даже в почерке. Потом явно, сознательно согрешил, кажется, только раз. Помню, однажды ночью перечитывал (в который раз?) «Песни западных славян» и пришёл в какой-то особенный восторг. Потушив огонь, вспомнил, как год тому назад был в Белграде, как плыл по Дунаю, – и стали складываться стихи «Молодой король»:
То не красный голубь метнулся
Тёмной ночью над чёрной горою –
В чёрной туче метнулась зарница,
Осветила плетни и хаты,
Громом гремит далёким.
Тёмной ночью над чёрной горою –
В чёрной туче метнулась зарница,
Осветила плетни и хаты,
Громом гремит далёким.
– Ваша королевская милость,–
Говорит королю Елена,
А король на коня садится,
Пробует, крепки ли подпруги,
И лица Елены не видит,–
Ваша королевская милость,
Пожалейте ваше королевство,
Не ездите ночью в горы:
Вражий стан, ваша милость, близко.
Король молчит, ни слова,
Пробует, крепко ли стремя.
Говорит королю Елена,
А король на коня садится,
Пробует, крепки ли подпруги,
И лица Елены не видит,–
Ваша королевская милость,
Пожалейте ваше королевство,
Не ездите ночью в горы:
Вражий стан, ваша милость, близко.
Король молчит, ни слова,
Пробует, крепко ли стремя.
– Ваша королевская милость,–
Говорит королю Елена,–
Пожалейте детей своих малых,
Молодую жену пожалейте:
Жениха моего пошлите!
Король в ответ ей ни слова,
Разбирает в темноте поводья,
Смотрит, как светит на горе зарница.
Говорит королю Елена,–
Пожалейте детей своих малых,
Молодую жену пожалейте:
Жениха моего пошлите!
Король в ответ ей ни слова,
Разбирает в темноте поводья,
Смотрит, как светит на горе зарница.
И заплакала Елена горько
И сказала королю тихо:
И сказала королю тихо:
– Вы у нас ночевали в хате,
Ваша королевская милость,
На беду мою ночевали,
На моё великое счастье…
Побудьте ещё хоть до света,
Отца моего пошлите!
Ваша королевская милость,
На беду мою ночевали,
На моё великое счастье…
Побудьте ещё хоть до света,
Отца моего пошлите!
Не пушки в горах грохочут,
Гром по горам ходит,
Проливной ливень в лужах плещет;
Синяя зарница освещает
Дождевые длинные иглы,
Воронёную черноту ночи,
Мокрые соломенные крыши;
Петухи поют по деревне,–
То ли спросонья, с испугу,
То ли к весёлой ночи…
Король сидит на крыльце хаты…
Гром по горам ходит,
Проливной ливень в лужах плещет;
Синяя зарница освещает
Дождевые длинные иглы,
Воронёную черноту ночи,
Мокрые соломенные крыши;
Петухи поют по деревне,–
То ли спросонья, с испугу,
То ли к весёлой ночи…
Король сидит на крыльце хаты…
Ах, хороша, высока Елена!
Смело шагает она по навозу,
Ловко засыпает коню корма…
Смело шагает она по навозу,
Ловко засыпает коню корма…
Затем что ещё? Вспоминаю уже не подражания, а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что- нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекавшее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений, что Бог порою давал в жизни. Вот, например, прекрасный весенний день, а мы под Неаполем, на гробнице Вергилия, и почему-то я вспоминаю Пушкина, душа полна его веянием – и я пишу:
Дикий лавр, и плющ, и розы
Дети, тряпки по дворам
И коричневые козы
В сорных травах по буграм…
Без границы и без края
Моря вольные края…
Верю – знал ты, умирая,
Что твоя душа – моя.
Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому – не всё ль равно!
Запах лавра, запах пыли,
Тёплый ветер… Счастлив я,
Что моя душа, Виргилий,
Не моя и не твоя!
Дети, тряпки по дворам
И коричневые козы
В сорных травах по буграм…
Без границы и без края
Моря вольные края…
Верю – знал ты, умирая,
Что твоя душа – моя.
Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому – не всё ль равно!
Запах лавра, запах пыли,
Тёплый ветер… Счастлив я,
Что моя душа, Виргилий,
Не моя и не твоя!
А вот другая весна, и опять счастливые, прекрасные дни, а мы странствуем по Сицилии... При чём тут Пушкин? Однако я живо помню, что в какой-то именно связи с ним, с Пушкиным, написал я:
Монастыри в предгориях глухих
Наследие разбойников морских,
Обители забытые, пустые –
Моя душа жила когда-то в них:
Люблю, люблю вас, келии простые,
Дворы в стенах тяжёлых и нагих,
Валы и рвы, от плесени седые,
Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Солёный ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!
Наследие разбойников морских,
Обители забытые, пустые –
Моя душа жила когда-то в них:
Люблю, люблю вас, келии простые,
Дворы в стенах тяжёлых и нагих,
Валы и рвы, от плесени седые,
Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Солёный ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!
А вот Помпея, и опять почему-то со мной он, и я пишу в воспоминание не только о Помпее, но как-то и о нём:
Помпея! Сколько раз я проходил
По эти переулкам! – Но Помпея
В апрельский день скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.
Я ль виноват, что всё перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!
Я помню только римские следы,
Протёртые колёсами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады…
Была весна. Как мёд в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил – и только жизнь любил!
По эти переулкам! – Но Помпея
В апрельский день скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.
Я ль виноват, что всё перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!
Я помню только римские следы,
Протёртые колёсами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады…
Была весна. Как мёд в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил – и только жизнь любил!
А вот лето в псковских лесах, и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днём, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно всё написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас:
Вдали темно и чащи строги
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю – на пороге
В мир позабытый, но родной.
Достойны ль мы своих наследий?
Уже мне слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам…
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю – на пороге
В мир позабытый, но родной.
Достойны ль мы своих наследий?
Уже мне слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам…
А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времён, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряжённой, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далёких дней, пушкинских дней... Вышли стихи: «Дедушка в молодости»:
Вот этот дом, сто лет тому назад
Был полон предками моими,
И было утро, солнце, зелень, сад,
Роса, цветы, а он глядел живыми,
Сплошь тёмными глазами в зеркала
Богатой спальни деревенской
На свой камзол, на красоту чела,
Изысканно, с заботливостью женской
Напудрен рисом, надушен,
Меж тем как пахло жаркою крапивой
Из-под окна открытого, и звон,
Торжественный и празднично-счастливый,
Напоминал, что в должный срок
Пойдёт он по аллеям, где струится
С полей нагретый солнцем ветерок
Где золотистый свет дробится
В тени раскидистых берёз,
Где на куртинах диких роз,
В блаженстве ослепительного блеска,
Впивают пчёлы тёплый мёд,
Где иволга то вскрикивает резко,
То окариною поёт,
А вдалеке, за валом сада,
Идёт народ, и краше всех – она,
Стройна, нарядна и скромна,
С огнём потупленного взгляда…
Был полон предками моими,
И было утро, солнце, зелень, сад,
Роса, цветы, а он глядел живыми,
Сплошь тёмными глазами в зеркала
Богатой спальни деревенской
На свой камзол, на красоту чела,
Изысканно, с заботливостью женской
Напудрен рисом, надушен,
Меж тем как пахло жаркою крапивой
Из-под окна открытого, и звон,
Торжественный и празднично-счастливый,
Напоминал, что в должный срок
Пойдёт он по аллеям, где струится
С полей нагретый солнцем ветерок
Где золотистый свет дробится
В тени раскидистых берёз,
Где на куртинах диких роз,
В блаженстве ослепительного блеска,
Впивают пчёлы тёплый мёд,
Где иволга то вскрикивает резко,
То окариною поёт,
А вдалеке, за валом сада,
Идёт народ, и краше всех – она,
Стройна, нарядна и скромна,
С огнём потупленного взгляда…
«Каково было вообще его воздействие на вас?». Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошёл в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил её небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной – и так особенно – с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нём, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас, – отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том...», «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...». В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся её молодость, – её и её сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а её самое звали Людмилой (Людмилой Александровной), и я смешивал её, молодую, – то есть воображаемую молодую, – с Людмилой из Пушкина. Ничего для моих детских, отроческих мечтаний не могло быть прекрасней, поэтичней её молодости и того мира, где росла она, где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и мне Пушкина и обожать не просто, как поэта, а как бы ещё и своего, нашего?
– «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел...» – с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:
– С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?
– «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...» – читала она, и опять это чаровало меня вдвойне: ведь я видел такой же цветок и в альбоме бабушки Анны Ивановны...
А потом – первые блаженные дни юношества, первые любовные и поэтические мечты, первые сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, которые я брал ведь не из «публичной библиотеки», а из дедовских шкапов и среди которых надо всем царили – «Сочинения А. Пушкина». И вся моя молодость прошла с ним. И то он рождал во мне те или иные чувства, то я неизменно сопровождал рождавшиеся во мне чувства его стихами, больше всего его. Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: «Мороз и солнце, день чудесный...». Вот я собираюсь на охоту – «и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?». Вот зимний вечер, вьюга – и разве «буря мглою небо кроет» звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве? Вот я сижу в весенние сумерки у раскрытого окна тёмной гостиной, и опять он со мной, выражает мою мечту, мою мольбу: «О, Делия драгая, спеши, моя краса, звезда любви златая взошла на небеса...». Вот уже совсем темно, и на весь сад томится и цокает соловей, а он спрашивает: «Слыхали ль вы за рощей в час ночной певца любви, певца своей печали?». Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», – а не электрическая лампочка, – и опять его словами изливаю я свою выдуманную юношескую любовь: «Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви!». А наутро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчётной радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пенье птиц, – и читаю строки, как будто для меня и именно обо мне написанные:
– «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел...» – с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:
– С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?
– «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...» – читала она, и опять это чаровало меня вдвойне: ведь я видел такой же цветок и в альбоме бабушки Анны Ивановны...
А потом – первые блаженные дни юношества, первые любовные и поэтические мечты, первые сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, которые я брал ведь не из «публичной библиотеки», а из дедовских шкапов и среди которых надо всем царили – «Сочинения А. Пушкина». И вся моя молодость прошла с ним. И то он рождал во мне те или иные чувства, то я неизменно сопровождал рождавшиеся во мне чувства его стихами, больше всего его. Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: «Мороз и солнце, день чудесный...». Вот я собираюсь на охоту – «и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?». Вот зимний вечер, вьюга – и разве «буря мглою небо кроет» звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве? Вот я сижу в весенние сумерки у раскрытого окна тёмной гостиной, и опять он со мной, выражает мою мечту, мою мольбу: «О, Делия драгая, спеши, моя краса, звезда любви златая взошла на небеса...». Вот уже совсем темно, и на весь сад томится и цокает соловей, а он спрашивает: «Слыхали ль вы за рощей в час ночной певца любви, певца своей печали?». Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», – а не электрическая лампочка, – и опять его словами изливаю я свою выдуманную юношескую любовь: «Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви!». А наутро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчётной радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пенье птиц, – и читаю строки, как будто для меня и именно обо мне написанные:
В роще сумрачной, тенистой,
Где, журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеёк!..
Где, журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеёк!..
А там опять «роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной забавы» – от той самой забавы, которой с такой страстью предаюсь и я. А вот осенняя, величаво-печальная осенняя ночь и тихо восходит из-за нашего старого сада большая, красновато-мглистая луна: «Как привидение, за рощею сосновой луна туманная взошла», – говорю я его словами, страстно мечтая о той, которая где-то там, в иной, далёкой стране, идёт в этот час «к брегам, потопленным шумящими волнами» – и как я могу определить теперь: Бог посылал мне мою тогдашнюю муку по какому-то прекрасному и печатному женскому образу или он, Пушкин?
А потом первые поездки на Кавказ, в Крым, где он – или я? – «среди зелёных волн, лобзающих Тавриду», видел Нереиду на утренней заре, видел «деву на скале, в одежде белой над волнами, когда, бушуя, в бурной мгле, играло море с берегами» – и незабвенные воспоминания о том, как когда-то и мой конь бежал «в горах, дорогою прибрежной», в тот «безмятежный» утренний час, когда «все чувство путника манит» –
А потом первые поездки на Кавказ, в Крым, где он – или я? – «среди зелёных волн, лобзающих Тавриду», видел Нереиду на утренней заре, видел «деву на скале, в одежде белой над волнами, когда, бушуя, в бурной мгле, играло море с берегами» – и незабвенные воспоминания о том, как когда-то и мой конь бежал «в горах, дорогою прибрежной», в тот «безмятежный» утренний час, когда «все чувство путника манит» –
И зеленеющая влага
Пред ним и плещет и шумит
Вокруг утёсов Аю-Дага…
Пред ним и плещет и шумит
Вокруг утёсов Аю-Дага…
<1926>